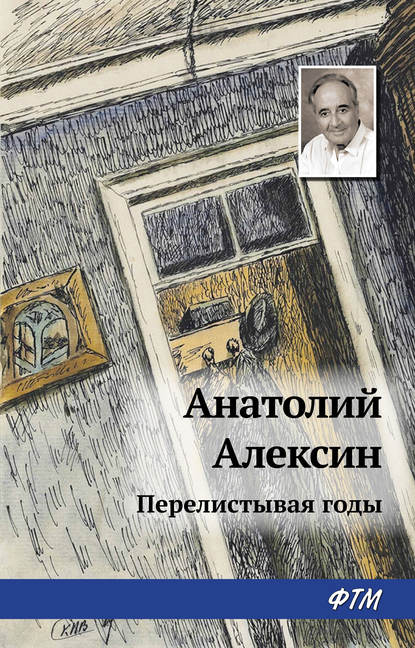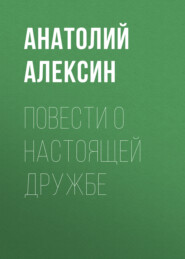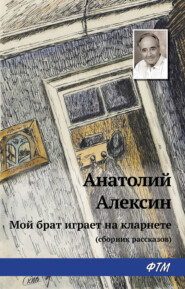По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Перелистывая годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Палатный врач растерянно замер, словно академик пошутил или задал какой-то ребус.
«Большой врач отличается от обыкновенного, как Пушкин от своего современника Кукольника, а Чехов – от своего коллеги Потапенко. Впрочем, это были люди даже разных профессий», – объясняла мне покойная мама, которая была детским врачом. И, как считалось, не очень обыкновенным.
Я сообщила академику, что коклюш был.
– И долго вы кашляли? Болезнь тогда ненароком не запустили?
– Разве моя мама могла подобное допустить? Она была педиатром! – ответила я столь протестующе, будто оскорбили мамину память.
Академик даже отпрянул и прижался к обшарпанной спинке.
– Я тоже очень любил свою маму. Но все-таки… В студеной реке или в холодном озере вы когда-нибудь не застужались? – осторожно поинтересовался он.
– Застужалась, но… когда мамы уже не было. Палатный врач записывал, хотя и продолжал удивляться. А я принялась рассказывать о той, долго не отпускавшей меня, простуде.
– Вот в этом все дело, – обернулся Бенцион Борисович к своему коллеге, который начал строчить более интенсивно. – Я легкие имею в виду. И бронхи. У нее – хронический и весьма, я бы сказал, запущенный, застарелый бронхит. И к тому же еще – эмфизема. – Он вновь обратился ко мне: – У вас тяжелые заболевания легких и бронхов. «Тяжелые», «легкие»… Антиподные понятия, да? Но жизнь часто соединяет несоединимое. Да еще эмфизема! Красиво звучит? Эм-фи-зе-ма… Похоже на «диадему». Так что никаких метастазов и вообще ничего неизлечимого у вас нет. Первый рентген, простим его, обознался.
Он не захотел сказать, что обознались и доктора. И мой палатный врач обознался… Тот оценил тактичность Бенциона Борисовича и согласно кивнул: да, мол, рентген виноват.
– Ну, а с ногою расстанемся, – без оптимизма, но и без драматизма как бы заключил академик. – Ничего не поделаешь. Это тяжко, но не смертельно. Костыли приходят на выручку, иногда протезы. А еще лучше – лечебная коляска. В вашем конкретном случае… – Он не сказал «инвалидная», а сказал «лечебная». – Чтобы, упаси Бог, не упасть. Но главный сюрприз, думается, я вам преподнес: вы будете жить. А на коляске передвигаться? Ну, что ж, вспомните Рузвельта. Ему это не помешало.
«Опять аналогии, – внутренне воспротивилась я. – То Черчилль, то Рузвельт… Нет ничего сомнительней аналогий. У Франклина Рузвельта был полиомиелит, а мне предстоит полная ампутация. Раз уж коляска…» Так я подумала, а сказала иное:
– Благодарю вас, Бенцион Борисович.
– Судьбу надо благодарить: коляска – это не метастазы. Будут вас катать… У вас ведь есть дети!
– Трое, – вдруг ответила я.
Бенцион Борисович повернулся к палатному врачу:
– Позовите, пожалуйста, семью. Они небось истомились, ожидаючи.
Палатный врач заспешил в коридор, а академик вновь потрепал меня по загривку:
– Сперва решил подарить сюрприз вам. И вашему доктору. Игнорировать его неудобно: вдруг бы он был с моим заключением не согласен? А теперь уж вручу подарок родным и близким.
– Ты будешь жить… Будешь жить… – повторяли мои мужчины, которых я назвала своими детьми. И стали жать руку Бенциону Борисовичу. Палатный врач пошел его провожать.
– Ты будешь жить…
Слова их констатировали факт. Но я не уловила в них торжества. Скорее, мои мужчины были растеряны, точно застигнуты врасплох… Узнав, что смертный приговор отменен, они еле заметно оторопели. Были обмануты их ожидания? Нет, они не желали моей кончины. Но уже свыклись с нею. Они привыкли к моей смерти… Которой еще не было. Которая еще не пришла.
– Как же ты будешь… без ноги? – проговорил мой сообразительный младший сын. А прозвучало: «Как же мы будем?»
– Ты нехорошо сказал, – тихонько поправил его отец. Но формальные фразы остаются без смысла, словно без воздуха.
Я знала: они жалели меня, мечтали никогда не расставаться со мною… но с той, которой я была прежде. А с этой?
«Возишь их в коляске, подобно младенцам», – сказала когда-то покойная мама. «Но я-то им в инвалидной коляске…» Завершить ту фразу я даже мысленно не смогла. Может, я не была справедлива? И все же… Рентген, просветивший мою семью, в отличие от медицинского, кажется, не ошибся. Не обознался.
Гертруда, стиснув губы и всю себя стиснув, молчала. Вероятно, по ее убеждению, мой новый диагноз возвращал ей одиночество. Не исключено, что у нее, в отличие от прежних времен, возникли и свои, личные проблемы. Может, ее уже сотрясали не только проблемы «других»?.. Об этом я знать не могла.
Неожиданно, что-то угадав, меня сзади обняла Лера. Семьи моей в палате уже не было. И Лера прижалась ко мне:
– Я полюбила вас. И буду вам верна… До конца своих дней!
На полгода верность мне была обеспечена. А каким образом… Об этом я не хотела думать.
Вечером опять появился палатный врач.
– И я поздравляю. Вслед за Бенционом Борисовичем. Рентген, слава Богу, ошибся. – Он был порядочным человеком – и потому добавил: – Или ошиблись мы. Теперь осталась лишь ампутация.
– Полная, – уточнила я. Он не возразил.
– Она необходима… Иначе то, чего, как оказалось, нет, может возникнуть. Откладывать не стоит. Ни на одну неделю! – Он протянул мне какую-то бумагу. – Это вы должны подписать.
– Что… это?
– Удостоверить, что против ампутации не возражаете. Он протянул мне шариковую ручку.
– Я это не подпишу.
– Как же так? Вы обязаны.
– Почему обязана? Это моя нога. И моя коленка… И моя жизнь.
Прости меня, мама…
Из блокнота
Мамы давно уже нет… А я все еще мысленно говорю: «Прости меня, мама». Она рассказывала близким, знакомым и даже не очень близким, какой у нее сын: очень хотела, чтобы люди ко мне хорошо относились, чтобы уважали меня. Я и в самом деле старался спасти ее от болезней, от житейских невзгод, торопился выполнить ее нечастые просьбы. А слов, которыми сейчас до того переполнен, что они подступают к горлу, не высказал. Многое мы, увы, осознаем запоздало, когда исправить уже ничего нельзя. Случалось, забывал позвонить в назначенный час. «Я понимаю, ты так занят!» Иногда раздражался по пустякам… «Я понимаю, как ты устал!» Она все стремилась понять, исходя из интересов сына, которые были для нее подчас выше истины. Если бы можно было сейчас позвонить, прибежать, высказать! Поздно.
Однажды Паустовский подарил мне стихотворение, переписанное его рукой из какого-то сборника. То были стихи молодого поэта Бориса Лебедева, который словно провидел свою судьбу: он ушел из жизни в самом ее начале.
Двадцать дней и двадцать ночей
Он жить продолжал, изумляя врачей…
Но рядом с ним была его мать –
И смерть не могла его доломать.
Двадцать дней и двадцать ночей
Она не сводила с него очей.
Утром, на двадцать первые сутки,
Она вздремнула на полминутки.
И чтобы не разбудить ее,
Он сердце остановил свое…
– Выучи эти стихи наизусть, – посоветовал Константин Георгиевич.