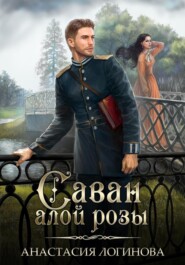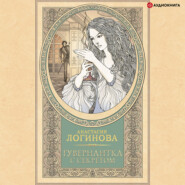По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Яд изумрудной горгоны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Да, заперты. Как и выход с черной лестницы. А у госпожи Мейер имеются ключи от всех дверей в этом заведении, в чем она сама только что призналась.
Глава 4. Рассказ Любы
Начальница института как будто что-то скрывала или побаивалась, что ее подопечные скажут лишнее… Это не давало Кошкину покоя. Однако он признавал, что навязчивые мысли могут быть лишь издержкой профессии – относится ко всем и каждому с подозрением. Едва ли эта немолодая и почтенная дама замешана в чем-то столь ужасном, как разбойное нападение и убийство… скорее, скрывает некие огрехи в своей работе, малоинтересные для полиции.
Как бы там ни было, переживать за вторую девушку Анне Генриховне явно стоило меньше – в отличие от Агафьи, Люба Старицкая вовсе не была разговорчивой.
– Сколько вам полных лет? – уточнил для начала Кошкин, дабы заполнить бумаги по всем правилам.
– Семнадцать, – чуть слышно прошелестела девушка.
– Родители живы?
– Нет, – голос сделался еще тише. – Батюшка был офицером, погиб на войне, под Кушкой. И матушка через два года после него, от чахотки. Когда сиротой осталась, приняли на курс, как дочь погибшего в бою офицера. С тех пор я здесь…
Удивительно, но, несмотря на разницу в два года, старше Агафьи Сизовой она не выглядела. Люба Старицкая чем-то неуловимо напоминала погибшую девицу Тихомирову – крайней субтильностью телосложения и мелкими чертами лица. Неудивительно, что они были подругами. Последнее, впрочем, известно только со слов Агафьи Сизовой, и Кошкин поспешил уточнить:
– Вы хорошо знали Феодосию?
– Фенечка действительно скончалась? – она подняла на Кошкина полные слез глаза.
– Да… мне жаль, – неловко пробормотал Кошкин.
– Господи… Агафья так и сказала – и про Фенечку, и про доктора Дмитрия Даниловича – а я не верила до конца… Да, конечно, мы были подругами – Фенечка была самой лучшей подругой на свете… право, не знаю, как стану жить без нее, мы дружили с первого моего дня здесь.
– Мне жаль… – повторил Кошкин еще более неловко.
Если слезы Агафьи Сизовой вызывали в нем толику раздражения, то эту девушку ему было в самом деле жаль. И у него слишком сильно болела голова, чтобы искать тому другие объяснения, нежели наличие у нее хорошенького лица и абсолютной беспомощности перед этим жестоким миром. Даже Мейер не упрекала ее за слезы, а лишь тихо гладила по хрупкому плечу. Таких девушек всегда хочется защитить и пожалеть.
А впрочем, довольно для него дамочек, желающих показаться беспомощными.
– Что вы делали в ночь, когда все случилось? – спросил Кошкин куда более строго, чем стоило.
Люба всхлипнула, ниже наклонила голову, явно ожидая упреков:
– Вам Агаша, наверное, все уже рассказала… мы гадали. Нарочно Агашу позвали для этого. Так Фенечка захотела.
– А вы не хотели?
– Погадать? – Люба неуверенно повела плечом. – Кому же не интересно узнать о будущем? Но, право, я не особенно в это верю. Я лишь хотела поддержать Фенечку.
– У Феодосии были причины… узнать о будущем? У нее что-то произошло?
– Насколько мне известно, нет, – всхлипнув снова, ответила девушка.
А потом подняла глаза на Кошкина и явственно, так, чтобы он заметил, скосила их на сидящую рядом госпожу Мейер.
Неужто давала понять, что не может говорить при начальнице?
Однако. Кажется, у девицы Тихомировой и правда имелись причины для беспокойства. А эта хрупкая Любушка не так уж беззащитна – хитрить она точно умеет. А впрочем, этот талант от природы дан всем женщинам без исключения, даже самым юным.
– Хорошо, – озадачился Кошкин. И вернулся все-таки к намеченному плану вопросов: – Ваша подруга жаловалась когда-то на боли в сердце?
– Нет… но Фенечка вовсе редко на что-то жаловалась. Помню, как нынешней зимой она в жару и ознобе занятия посещала, а после вместе со всеми украшала музыкальный класс к Рождеству. Еще и других подбадривала, чтоб веселее были.
Жаль, но ближайшая подруга однозначно не подтвердила, что Тихомирова страдала больным сердцем: больше работы медицинскому эксперту по доказыванию естественной причины смерти. Но Кошкин сомнениям этот факт не подвергал. Не отравили же ее в самом деле! Кому могла помешать малолетняя девица, почти ребенок?
Когда после допроса выходила Агафья Сизова, Кошкин успел подозвать Костенко и коротко с ним переговорить. Велел сопроводить девушку, пусть и под строгим присмотром госпожи Мейер, до спальной комнаты, а после изъять в качестве улики эту ее заварку из мелиссы. Инциденты с обыкновенной, казалось бы, чайной заваркой в сыщицкой практике Кошкина, увы, уже случались…[1 - Эти события описаны в книге «Слёзы чёрной вдовы»]
И все же смерть девушки виделась ему трагической случайностью, совпадением с разбойным налетом на докторов. Именно налет с убийством и следовало раскрывать в первую очередь.
– Чья это была идея – отвести вашу подругу к доктору?
– Нины, нашей соседки. А я, признаться, растерялась совсем… Быть может, если бы спохватилась сразу, то Фенечке успели бы помочь…
– Едва ли, – покачал головой Кошкин. – Не стоит вам себя корить. А Нина, выходит, знала, что доктор Кузин остался в институте этой ночью? – с сомнением уточнил он, потому как помнил: для генерала Раевского, к примеру, нахождение доктора на рабочем месте стало неожиданностью.
Люба Старицкая пожала плечами и неуверенно согласилась:
– Выходит, что знала…
Занятным было то, что госпожа Мейер ни разу не перебила девушку во время ее рассказа, не поправила и даже колких замечаний не оставляла. Она слушала молча, с явным сочувствием и то и дело почти что по-матерински гладила мадемуазель Старицкую по руке. Очевидно, что девушка была любимицей Анны Генриховны – в отличии хотя бы от Агафьи Сизовой. И едва ли дело лишь в ангельской внешности, приятных манерах и кротком нраве Любы, да в запутанном происхождении Агафьи – хоть и это наверняка сыграло роль.
Люба, без сомнения, была хитренькой девушкой. Знала, когда сказать, когда смолчать, когда пустить слезу, а когда проявить твердость. И это даже не упрек. Воспитывалась в сем учебном заведении Люба намного дольше Агафьи, с восьми лет, как она сказала. Видимо, было достаточно времени и причин, чтобы научиться.
Ну а для Кошкина это было сигналом, что Люба Старицкая слишком хорошо умеет притворяться, чтобы верить ее показаниям на сто процентов. Кошкин сделал пометки относительно тех показаний в своем блокноте и снова спросил:
– Доктор Кузин показался вам взволнованным, не таким, как обычно, когда вы его увидели ночью?
– Да, – тотчас согласилась Люба, – он был чем-то напуган, так мне показалось. Даже впускать нас сперва не хотел, пока не увидел Фенечку.
– Напуган? Чем же он мог быть напуган в собственном кабинете, как вы думаете?
– Право, не знаю… – смутилась Люба, – мне подумалось, что он спросонья, может быть.
Кошкин же рассудил иначе. Неужто Кузина уже тогда держали «на мушке», и он справедливо опасался за жизни девочек? Поэтому не хотел впускать?
Или же просто опасался, что они помешают деликатной беседе?.. Впрочем, если он выглядел напуганным, то, скорее, первое.
– Вы заметили кого-то еще в лазарете, помимо Кузина? – уточнил все-таки Кошкин, не особенно надеясь на положительный ответ.
И только теперь девушка повела себя странновато: встревожилась и быстро оглянулась на начальницу института. Будто спрашивала разрешения. А после вдумчиво кивнула:
– Вы ведь о докторе Калинине говорите? Мне Агафья сказала. Его самого я не видела, но дверь в соседствующий с лазаретом кабинет была приоткрыта и вдруг захлопнулась сама собой, когда мы вошли. Совсем тихо, не знаю, видели ли это другие девочки…
– Может быть, это просто сквозняк? – предположил Кошкин.
– Едва ли… окно было закрыто.
Глава 4. Рассказ Любы
Начальница института как будто что-то скрывала или побаивалась, что ее подопечные скажут лишнее… Это не давало Кошкину покоя. Однако он признавал, что навязчивые мысли могут быть лишь издержкой профессии – относится ко всем и каждому с подозрением. Едва ли эта немолодая и почтенная дама замешана в чем-то столь ужасном, как разбойное нападение и убийство… скорее, скрывает некие огрехи в своей работе, малоинтересные для полиции.
Как бы там ни было, переживать за вторую девушку Анне Генриховне явно стоило меньше – в отличие от Агафьи, Люба Старицкая вовсе не была разговорчивой.
– Сколько вам полных лет? – уточнил для начала Кошкин, дабы заполнить бумаги по всем правилам.
– Семнадцать, – чуть слышно прошелестела девушка.
– Родители живы?
– Нет, – голос сделался еще тише. – Батюшка был офицером, погиб на войне, под Кушкой. И матушка через два года после него, от чахотки. Когда сиротой осталась, приняли на курс, как дочь погибшего в бою офицера. С тех пор я здесь…
Удивительно, но, несмотря на разницу в два года, старше Агафьи Сизовой она не выглядела. Люба Старицкая чем-то неуловимо напоминала погибшую девицу Тихомирову – крайней субтильностью телосложения и мелкими чертами лица. Неудивительно, что они были подругами. Последнее, впрочем, известно только со слов Агафьи Сизовой, и Кошкин поспешил уточнить:
– Вы хорошо знали Феодосию?
– Фенечка действительно скончалась? – она подняла на Кошкина полные слез глаза.
– Да… мне жаль, – неловко пробормотал Кошкин.
– Господи… Агафья так и сказала – и про Фенечку, и про доктора Дмитрия Даниловича – а я не верила до конца… Да, конечно, мы были подругами – Фенечка была самой лучшей подругой на свете… право, не знаю, как стану жить без нее, мы дружили с первого моего дня здесь.
– Мне жаль… – повторил Кошкин еще более неловко.
Если слезы Агафьи Сизовой вызывали в нем толику раздражения, то эту девушку ему было в самом деле жаль. И у него слишком сильно болела голова, чтобы искать тому другие объяснения, нежели наличие у нее хорошенького лица и абсолютной беспомощности перед этим жестоким миром. Даже Мейер не упрекала ее за слезы, а лишь тихо гладила по хрупкому плечу. Таких девушек всегда хочется защитить и пожалеть.
А впрочем, довольно для него дамочек, желающих показаться беспомощными.
– Что вы делали в ночь, когда все случилось? – спросил Кошкин куда более строго, чем стоило.
Люба всхлипнула, ниже наклонила голову, явно ожидая упреков:
– Вам Агаша, наверное, все уже рассказала… мы гадали. Нарочно Агашу позвали для этого. Так Фенечка захотела.
– А вы не хотели?
– Погадать? – Люба неуверенно повела плечом. – Кому же не интересно узнать о будущем? Но, право, я не особенно в это верю. Я лишь хотела поддержать Фенечку.
– У Феодосии были причины… узнать о будущем? У нее что-то произошло?
– Насколько мне известно, нет, – всхлипнув снова, ответила девушка.
А потом подняла глаза на Кошкина и явственно, так, чтобы он заметил, скосила их на сидящую рядом госпожу Мейер.
Неужто давала понять, что не может говорить при начальнице?
Однако. Кажется, у девицы Тихомировой и правда имелись причины для беспокойства. А эта хрупкая Любушка не так уж беззащитна – хитрить она точно умеет. А впрочем, этот талант от природы дан всем женщинам без исключения, даже самым юным.
– Хорошо, – озадачился Кошкин. И вернулся все-таки к намеченному плану вопросов: – Ваша подруга жаловалась когда-то на боли в сердце?
– Нет… но Фенечка вовсе редко на что-то жаловалась. Помню, как нынешней зимой она в жару и ознобе занятия посещала, а после вместе со всеми украшала музыкальный класс к Рождеству. Еще и других подбадривала, чтоб веселее были.
Жаль, но ближайшая подруга однозначно не подтвердила, что Тихомирова страдала больным сердцем: больше работы медицинскому эксперту по доказыванию естественной причины смерти. Но Кошкин сомнениям этот факт не подвергал. Не отравили же ее в самом деле! Кому могла помешать малолетняя девица, почти ребенок?
Когда после допроса выходила Агафья Сизова, Кошкин успел подозвать Костенко и коротко с ним переговорить. Велел сопроводить девушку, пусть и под строгим присмотром госпожи Мейер, до спальной комнаты, а после изъять в качестве улики эту ее заварку из мелиссы. Инциденты с обыкновенной, казалось бы, чайной заваркой в сыщицкой практике Кошкина, увы, уже случались…[1 - Эти события описаны в книге «Слёзы чёрной вдовы»]
И все же смерть девушки виделась ему трагической случайностью, совпадением с разбойным налетом на докторов. Именно налет с убийством и следовало раскрывать в первую очередь.
– Чья это была идея – отвести вашу подругу к доктору?
– Нины, нашей соседки. А я, признаться, растерялась совсем… Быть может, если бы спохватилась сразу, то Фенечке успели бы помочь…
– Едва ли, – покачал головой Кошкин. – Не стоит вам себя корить. А Нина, выходит, знала, что доктор Кузин остался в институте этой ночью? – с сомнением уточнил он, потому как помнил: для генерала Раевского, к примеру, нахождение доктора на рабочем месте стало неожиданностью.
Люба Старицкая пожала плечами и неуверенно согласилась:
– Выходит, что знала…
Занятным было то, что госпожа Мейер ни разу не перебила девушку во время ее рассказа, не поправила и даже колких замечаний не оставляла. Она слушала молча, с явным сочувствием и то и дело почти что по-матерински гладила мадемуазель Старицкую по руке. Очевидно, что девушка была любимицей Анны Генриховны – в отличии хотя бы от Агафьи Сизовой. И едва ли дело лишь в ангельской внешности, приятных манерах и кротком нраве Любы, да в запутанном происхождении Агафьи – хоть и это наверняка сыграло роль.
Люба, без сомнения, была хитренькой девушкой. Знала, когда сказать, когда смолчать, когда пустить слезу, а когда проявить твердость. И это даже не упрек. Воспитывалась в сем учебном заведении Люба намного дольше Агафьи, с восьми лет, как она сказала. Видимо, было достаточно времени и причин, чтобы научиться.
Ну а для Кошкина это было сигналом, что Люба Старицкая слишком хорошо умеет притворяться, чтобы верить ее показаниям на сто процентов. Кошкин сделал пометки относительно тех показаний в своем блокноте и снова спросил:
– Доктор Кузин показался вам взволнованным, не таким, как обычно, когда вы его увидели ночью?
– Да, – тотчас согласилась Люба, – он был чем-то напуган, так мне показалось. Даже впускать нас сперва не хотел, пока не увидел Фенечку.
– Напуган? Чем же он мог быть напуган в собственном кабинете, как вы думаете?
– Право, не знаю… – смутилась Люба, – мне подумалось, что он спросонья, может быть.
Кошкин же рассудил иначе. Неужто Кузина уже тогда держали «на мушке», и он справедливо опасался за жизни девочек? Поэтому не хотел впускать?
Или же просто опасался, что они помешают деликатной беседе?.. Впрочем, если он выглядел напуганным, то, скорее, первое.
– Вы заметили кого-то еще в лазарете, помимо Кузина? – уточнил все-таки Кошкин, не особенно надеясь на положительный ответ.
И только теперь девушка повела себя странновато: встревожилась и быстро оглянулась на начальницу института. Будто спрашивала разрешения. А после вдумчиво кивнула:
– Вы ведь о докторе Калинине говорите? Мне Агафья сказала. Его самого я не видела, но дверь в соседствующий с лазаретом кабинет была приоткрыта и вдруг захлопнулась сама собой, когда мы вошли. Совсем тихо, не знаю, видели ли это другие девочки…
– Может быть, это просто сквозняк? – предположил Кошкин.
– Едва ли… окно было закрыто.