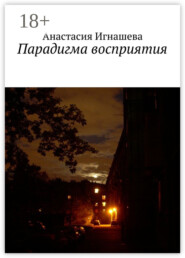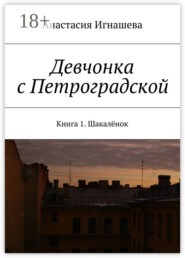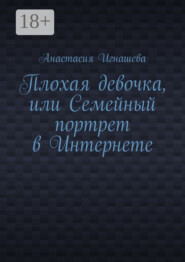По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
СССР. Погибшая Атлантида
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Тысячи священников на оккупированных территориях СССР как могли, боролись с захватчиками. Сан запрещал им брать в руки оружие, но многие из них благословляли идти в партизаны своих детей, помогали распространять листовки, собирали сведения о передвижениях немецких частей и передавали их партизанам, укрывали бежавших из плена красноармейцев. И многие из них приняли мученическую смерть от рук врагов и их приспешников, многие были награждены советскими наградами. Во время войны был отмечен как раз всплеск религиозности, были открыты многие храмы, много священников выпустили из лагерей.
«Не бывает атеистов в окопах под огнём» (Е. Летов)
Однако, вернёмся к язычеству.
Почву для возникновения неоязычества подготовили ещё до революции 1917 года. Тогда, во времена «Серебряного века» тоже вдруг вспыхнул среди образованной публики интерес к нашей старине. К теме древней Руси обращались и Рерих, и юная Вера Мухина, делавшая эскизы к декорациям и костюмам балета И. Стравинского «Весна Священная», сам балет тоже был написан по мотивам древнеславянского эпоса, и А. Блок… Но это было увлечение, не более. Культурное веяние. Подлинное рождение неоязычества произошло в 1918 году, после прихода большевиков к власти и объявленного ими «красного террора» и начала войны с Православной церковью. Одновременно с закрытием и уничтожением храмов, убийствами священников, монахов и активно верующих мирян, в недрах новой власти спешно ваялась новая религия, сляпаная их обрывков древнеславянских верований, каббалистики, марксизма и откровенных суеверий. Вот что по поводу этого сказал тот же Михаил Тухачевский:
«Латинско-греческая культура – это не для нас. Я считаю Ренессанс наравне с христианством одним из несчастий человечества. Гармонию и меру – вот что нужно уничтожить прежде всего. Мы выметем прах европейской цивилизации, запорошившей Россию, мы встряхнём её, как пыльный коврик, а потом встряхнём весь мир. Я ненавижу Владимира Святого за то, что он крестил Русь и выдал её западной цивилизации. Надо было сохранить в неприкосновенности наше грубое язычество, наше варварство. Но и то, и другое ещё вернётся. Я в этом не сомневаюсь».
Ну что тут сказать?! Во-первых: крещение Русь приняла не с Запада, а как раз с Востока – из Византии. Римских проповедников Владимир Креститель выставил прочь со словами «от вас учения не приемлем».
Во-вторых: европеизировать Русь стремился как раз не он, а Пётр Первый.
Ну и в-третьих: вряд ли древним славянам не были знакомы понятия меры и гармонии.
Странно – Тухачевский вроде бы образованный человек, дворянин, офицер, получивший качественное образование. Хотя… самые сильные мракобесы выходят как раз из образованных. Сам же Тухачевский во время Первой Мировой войны попал в плен и там, в лагере для военнопленных соорудил себе из подручных материалов идола Перуна, которому каждый день молился. А практически сразу же после революции, едва вернувшись домой из плена, он направил в Совнарком записку, с предложением объявить язычество новой государственной религией. И самое интересное, что там к записке отнеслись вполне серьёзно и тему поставили на обсуждение! Но дело заглохло. А потом Сталин решил заключить с церковью мир, велел вернуть верующим некоторые закрытые ранее храмы и выпустить из лагерей осуждённых священников.
Следующая вспышка интереса коммунистов к неоязычеству произошла при Хрущёве. Тот, как известно, христианство ненавидел и обещал «показать по телевизору последнего попа». Ну-ну. Где он и где Православная церковь с попами? Со второй половины 1950-х годов партработниками затевается возрождение отдельных языческих обычаев под видом «социалистической обрядности». «Обрядность» создавалась на основе дохристианских верований и народных праздников. Преподносилось это всё дело как «восстановление самобытных черт народной культуры» и сопровождалось соответствующей риторикой: мол, веками попы и эксплуататоры трудового народа – помещики и цари, притесняли народ, запрещая ему-де праздновать народные праздники и насаждая христианский культ. И только после революции народ смог свободно праздновать дошедшие из глубины веков праздники Коляды, Масленицу, Солнцеворот. Отчасти такое утверждение имеет под собой почву: царь Алексей Михайлович Тишайший, например, не любил скоморохов, активно боролся с пережитками язычества и суевериями, всячески укреплял в стране и народе авторитет церкви, будучи сам человеком очень религиозным. Именно при нём произошёл церковный раскол, вызванный реформами патриарха Никона. Но это единственный случай. Остальные русские цари так рьяно не усердствовали.
И даже многие советские писатели не избежали участия в этом. Вот что, например, писал вологодский писатель Иван Полуянов в своей книге «Вологодский Месяцеслов»:
«Мало обнаружишь в них (месяцесловах – А. И.) почтения к „угодникам божиим“, „святым мученикам“, „пророкам“, коль редкий из них избежал в месяцесловах прозвищ, кличек… Поэтому удивительно ли, что устные, жившие в народной молве календари, преследовались боярами и попами».
А это ничего, что древние дохристианские праздники практически один-в-один ложились на христианский календарь и в народном сознании «срослись» друг с другом? Что Рождество – это практически праздник зимнего Солнцеворота, древнеславянский Карачун, Масленицу признала и церковь тоже, как и Святки, Пасха приходится на то время, когда славяне праздновали возрождение земли после зимнего сна и прилёт птиц, Троица – это праздник начала лета и окончания сева, летний Солнцеворот – это день Ивана Купалы, в названии этого праздника объединились и христианское – церковь поминает Иоанна Крестителя, и языческое – культ Купалы, бога вод и рек. А практически вся низшая демонология у русских в полном составе перекочевала в православие из язычества: домовой, банник, овинник, полевик, леший, кикимора, русалка – все эти существа и сущности дошли до нас из давних, дохристианских верований. Приходские же священники, отправлявшие службы по деревням и сёлам, сами, в большинстве своём были из крестьян и, следовательно, существование этих сущностей ни сколько не отрицали.
Но советские правители этого то ли не знали, то ли специально умалчивали. Да что там! Наш культ Победы и оружия, появившийся как раз после войны, имеет не христианские, а языческие корни! Вечный огонь – это не христианский, а языческий символ. В христианской традиции как раз в честь павших воинов строили храмы, а не монументы. Да и сам герб Советского Союза, это чисто языческий герб, он содержит огромное количество языческой символики, серп – символ Матери Земли, молот – символ отца Сварога, их соединение – священный брак, озаряющее землю солнце, Велес – символизируемый снопами, там очень много языческого. Да и сам атеистический характер жизни в СССР способствовал развитию язычества и оккультизма. Несколько лет назад попалась мне в руки любопытная книжица: «Традиционные и новые обряды в быту народов СССР». Издана ни много, ни мало – Академией Наук СССР в 1981 году. В Предисловии к изданию сказано, что:
«Советские этнографы ведут активную деятельность в области изучения и разработки новых обрядов…
…Вместе с работниками Комиссий и Советов по новой обрядности, созданных при государственных и общественных организациях…
…работают над сценариями разных обрядов…»
Что это были за обряды? Сами авторы книги делили их на три группы: 1) общественно-гражданские вроде демонстраций на 1 Мая, или 7 Ноября;
2) Лично-гражданские вроде приёма в пионеры, в комсомол, или же принятия Присяги в армии;
3) Лично-семейные: свадебные, посвящённые рождению детей, похоронные. Издавна все эти события сопровождались церковными обрядами: крестины, венчание, отпевание. Теперь предлагалось создать новые «советские» обряды, призванные бороться с «пережитками прошлого», а заодно и с «религиозно-магической обрядностью», которая по выражению одного из авторов книги «выражает фантастическое, антинаучное мировоззрение». Новая же, социалистическая обрядность, по словам того же автора была «лишена мистического содержания», но имела под собой, ни много, ни мало «научно-материалистические основы». При этом авторы, конечно, призывали активно использовать народные традиции. С одной стороны похвально. Однако тут же делается заявление, что народные традиции делятся на «прогрессивные» – идущие с дохристианских времён, языческие и «реакционные» – связанные с церковью.
Тут я опять немного отойду в сторону и расскажу о советских традициях и обрядах, используя всё ту же книжку, на примере таких событий в жизни человека, как свадьба, рождение детей и похороны. Обряды эти относились авторами к «лично-семейным». Собственно, на обрядовую сторону этих событий стали обращать внимание только с 70х годов, когда благосостояние народа стало потихоньку расти. До этого просто было не до того, а в деревнях нередко сохранялись старинные традиционные обряды. Так, по воспоминаниям сельских старожилов, ещё в 60е годы на свадьбу невеста и свахи могли надеть традиционный костюм и головные уборы: кичку, кокошник.
В советские времена появилась традиция надевать белое платье невесте. Хотя у наших предков белый был цветом смерти и траура. И если девушка шла под венец в светлых одеждах, то это означало, что она – сирота. Традиционно русские девушки-крестьянки шли к венцу в красных сарафанах. белые платья, как символ чистоты и невинности надевали к венцу только девушки из высших слоёв общества: дворянки, дочери купцов Первой гильдии. После революции Венчаться было запрещено, к тому же свадебные платья и кольца долгое время считали пережитком прошлого. А в раннесоветский период мужчины либо женились в самом лучшем своём костюме, либо в военной форме, а девушка надевала на свадьбу своё самое лучшее «выходное» платье. Традиция обмениваться обручальными кольцами возрождается только в 60х годах.
У славянских народов, мы помним, был развит культ предков. И во многих восточнославянских традициях было принято в день свадьбы посещать могилы родственников. В одних местах это делали все молодожёны, в других – только сироты, таким образом как бы просившие у умерших родителей благословения на брак. Молодые люди или молились на могиле умерших родителей в одиночку, или приглашали священника служить панихиду – смотря по достатку и желанию. В советских свадебных обрядах эта традиция трансформировалась в обычай посещения памятников погибшим в Великую Отечественную, или героев революции. В Ленинграде к таким местам поклонения до сих пор относятся Пискарёвское кладбище и мемориал защитникам Ленинграда у Средней Рогатки. Так же принято было возлагать цветы на Марсовом поле, где похоронены погибшие во время уличных стычек в Февральскую и Октябрьскую революцию и при подавлении Кронштадтского мятежа. После крушения социализма большинство молодых возлагают цветы к Медному Всаднику. В Евпатории практически все свадебные кортежи направлялись к памятнику Морякам-десантникам – это памятник Евпаторийскому десанту, погибшему в 1942. Словом – в каждом городе и каждом населённом пункте были свои места поклонения. Опять же – похвально. Но чаще всего молодым предлагалось посетить памятник Ленину.
Нередко молодым предлагалось в знак рождения новой семьи зажечь семейный факел от Вечного огня. Это тоже языческая традиция. У древних славян при заключении брака тоже добывался «живой огонь». После этого молодым подносился кубок из которого они пили по очереди. В некоторых случаях традиционный бокал шампанского в ЗАГСе после заключения брака тоже заменялся общим кубком. Рушники, которыми опоясывались издавна участники свадебного действа: дружки, подружья, «бояре» и «тысяцкие» – заменялись нарядными лентами свидетелей, надеваемыми через плечо. Иногда молодым даже надевали на головы символические венцы, совершенно не смущаясь тем, что это-то, как раз «реакционная» традиция, восходящая напрямую к венчанию в церкви. Свадебные песнопения заменились маршем Мендельсона. Не менее тщательно продумывался и наряд распорядителя ЗАГСа. А проще говоря – «тётеньки, которая женит». Поскольку распорядитель, она же регистратор, символизирует власть, то облик её, а так же поведение, были регламентированы до мелочей специальными инструкциями и распоряжениями: заведующий загсом должен обеспечивать «образцовую работу всех служб, причастных к обрядовому обслуживанию населения, оказывает методическую помощь исполнителям обрядов…
Он должен иметь достаточные знания и опыт, чтобы самому проводить обряды на высоком идейно-художественном уровне». К вопросу о том, какую специальность имеют регистраторы: «исполнители обряда имеют специальное образование, которое устанавливается областными и районными комиссиями (13).
Наряд распорядителя тоже должен был соответствовать моменту.
Нередко дамы-регистраторши облачались в светлые, бесформенные, но очень торжественные балахоны. Наряд обычно дополняла особая цепь с гербом.
Стол, на котором расписываются молодожёны, обязательно должен был быть покрыт красной скатертью. Кроме того, молодые должны были при регистрации брака принести специальную клятву в верности друг другу.
Это что касается «официоза». А неофициально, так сказать, каждый изощрялся как мог. До сих пор вспоминаю со смехом и содроганием этих пучеглазых кукол в белых платьях на капоте свадебного авто. К счастью, традиция сажать куклу на капот ушла в прошлое.
Обряд крещения младенца заменили на акт торжественной регистрации. Обычно его проводили в ЗАГСе, или в сельсовете, а в крупных городах – в специальном Дворце Малютки. Вместо нательного крестика родителям вручали или памятную медальку, или «звёздочку». Вместо крёстных предлагалось выбрать так называемых «названных» матерей и отцов, что опять же пародировало христианский обряд крещения.
Не менее красочными и зрелищными для советских граждан должны были стать и похороны. Надо заметить сразу, что похоронная обрядность, в отличие от крестильной и свадебной, в советские времена практически не претерпела никаких изменений и меньше всего оказалась затронута социалистическими изобретателями новых традиций: точно так же сразу же выбрасывается постель усопшего, открываются все двери и окна в доме «чтобы душа вышла», занавешиваются зеркала, перед портретом ставят рюмку водки и кусок хлеба, которые стоят до «сорочин». Точно так же поминают умершего на третий, девятый и сороковой день, а дальше – каждый год и каждую «родительскую субботу», а так же накануне Рождества. Точно так же покойному в гроб надевают специальную обувь… Но в советские времена отпевание заменили оркестром и «гражданской панихидой». Так же в советские времена, а именно в начале 30-х годов у нас появилась традиция кремировать покойников. Вернее – возродилась языческая традиция. Христианство трупосожжение не одобряет, а предписывает хоронить тела в землю, дабы все покойные могли восстать, когда придёт Судный День. Сожжённые же не восстанут и спасения не обретут.
Насаждение языческих обрядов на официальном уровне под флагом борьбы с Церковью в СССР породило первых советских идеологов славянского неоязычества. Одним из них стал специалист по семитским языкам и преподаватель Высшей Партийной Школы при ЦК КПСС Валерий Емельянов. С 1970 года он начинает распространять свои идеи в качестве лектора при Ленинском райкоме КПСС в Москве. Емельянов пропагандировал концепцию всеобщего мирового заговора евреев против язычников, якобы задуманного 3 000 лет назад царём Соломоном с тем, чтобы к 2 000 году н.э. захватить власть над всем миром. Неоязыческий проповедник призывал покончить с православием как «предбанником иудейского рабства» и вернуться к древнему культу славянских богов. Идеи Емельянова вошли в «золотой фонд» родноверческой мысли: ненависть к евреям, мистический ужас перед мировым заговором сионистов, смертельная ненависть к христианству и призыв к возвращению «родной веры» с сохранением верности идеалам коммунизма. В 1978—1979 годы Емельянов написал и распространил в самиздате книгу «Десионизация», в которой изложил свою концепцию мировой истории как извечной борьбы евреев и их «масонской агентуры» против язычников. Книга была даже переведена на иностранные языки и распространялась за рубежом.
Закончил Емельянов плохо: свихнулся на почве своих идей, убил жену и в итоге оказался в психушке.
Третий всплеск родноверия начался уже после смерти Брежнева, при Андропове. Андропов возглавлял КГБ с 1967 года, а с 1982 по 1983 был и руководителем всей страны. Именно на вторую половину 70-начало 80-х годов приходится всплеск русского национального самосознания: возрождение интереса к истории, православию, в среде интеллигенции стало вдруг модным ходить на службу в церковь, люди стали интересоваться своей родословной, в 1980 году о себе впервые заявило общество «Память» всвязи с годовщиной Куликовского сражения. Именно в этот период был написан знаменитый «белогвардейский цикл» Звездинского: «Не падайте духом, поручик Голицын» и остальные песни, менее известные. Процесс этот шёл «снизу» и не был никак инсперирован правящей верхушкой. Наоборот: руководители страны забеспокоились. Они увидели в этом прямую угрозу своей власти и идеологии, которая и так уже трещала по всем швам. К тому же Андропов, который был никакой не Андропов, русский народ не любил и боялся. Не любил он и русских патриотов-почвенников. А тут ещё события в Польше, где католицизм практически одержал победу над марксизмом. А ещё – приближалась дата куда более значительная – Тысячелетие крещения Руси. Всё это не могло не внушать беспокойства правителям-безбожникам. Так что родноверие тут пришлось весьма кстати. Его и подсунули народу под видом сохранения «русскости» и «русских традиций».
При этом сами неоязычники считают коммунизм и древнеславянский общинный строй одним и тем же: вечевое самоуправление и общинное «социалистическое» хозяйствование – это-де «вековая мечта русского народа», утверждают они. И что «язычество и коммунизм – это одно и то же».
Родноверы и сейчас существуют, некоторые их идеи активно пропагандирует, в частности, канал Рен ТВ, а сам Геннадий Зюганов является не только главой КПРФ, но и родноверческого движения «Русский Лад». Ну, к личности Геннадия Андреевича мы ещё вернёмся. Любопытный персонаж.
Пасхальная служба. 1970е гг. И всё-таки не удалось коммунистам уничтожить Православие и отвратить народ от церкви. Не получилось «показать по телевизору последнего попа» и навязать «родноверие» в качестве новой религии.
Глава 3. «Экономика должна быть…»
«Экономика должна быть экономной!» этот лозунг появился примерно в 1980, или 81 году, на самом закате брежневского правления. И одновременно с ним тиражировали ещё одно высказывание «дорогого Леонида Ильича»: «Будет хлеб, будет и песня!». Ну, не смотря на дефицит, в разряд которого могло попасть всё, что угодно, с хлебом перебоев не было. Собственно, в состоянии застоя советская экономика находилась сравнительно недолго – с 1979 по 1982 годы (2). В остальное время застой был весьма динамичным, хотя динамика была и отрицательной. Советская экономика неумолимо сползала в системный кризис. И именно эти процессы нынешние «плачущие ярославны» и прочие восхвалители советского периода замечать не хотят. Об этих явлениях просто приказано забыть. А ведь без объективного изучения советского опыта мы так и не сможем понять, почему же развалился СССР и почему социалистический эксперимент потерпел фиаско.
74 года существования СССР (с 1917 по 1991 г.) можно разделить на несколько периодов, которые существенно отличаются друг от друга по ряду экономических и политических признаков:
1. Период «военного коммунизма» (1917 – 1921). [Идеологи и реализаторы – В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий].
2. Период новой экономической политики, или НЭПа (1921 – 1929). [Идеолог и реализатор Н. Бухарин.).
3. Период индустриализации и построения основ социализма (1929 – 1941).
4. Великая Отечественная война и послевоенное восстановление экономики (1941 – 1948).
5. Период мирного развития на базе сталинской модели экономики (1948 – 1956).
6. Первый период демонтажа сталинской модели экономики (период Хрущёва: 1956 – 1964).
7. Второй период демонтажа сталинской модели экономики (период подготовки и проведения реформы Косыгина-Либермана: 1964—1969).
8. Период застоя (1969—1985).
9. Период перестройки и активного разрушения остатков сталинской модели экономики (1985—1991).
Итак, первый-второй периоды можно назвать ранней экономикой СССР. Третий-пятый периоды относятся к сталинской экономике. А шестой-девятый периоды охватывают позднюю экономику СССР… А в более широком историческом аспекте её следует определить как переходную экономику – от социалистической модели к модели капиталистической.