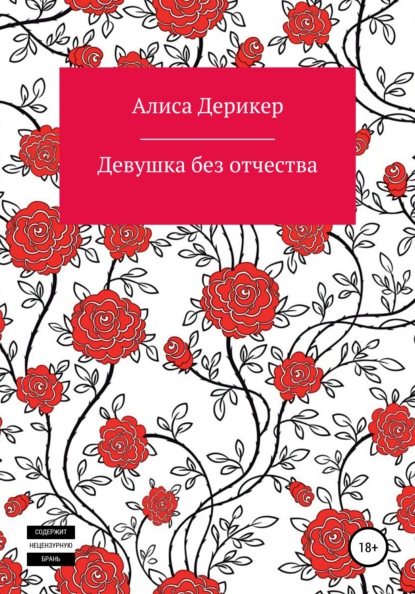По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Девушка без отчества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А я почём знаю? – и он снова отвернулся от меня и уставился в окно. Зажженная сигарета дымилась в пальцах, но пока я стояла тут, он ещё ни разу ею не затянулся. Я догадывалась, что это не первая сигарета, возможно, прикуренная от предыдущей.
Я уже собиралась уходить, как он тихо сказал:
– Постой со мной. Грустно без неё. Тоска.
– Мне тоже, – тихо сказала я, чтобы не дрожал голос, – грустно.
И отошла так, чтобы он меня не видел. Так было проще вытирать слёзы, и не было так стыдно. И ещё дядя Боря мог сказать мне что-то вроде «не реви», и мне бы стало обидно. Хотелось поплакать спокойно, так, чтобы никто на меня не смотрел, не жалел и не осуждал за это. Я вот вроде бы и была совсем одна тут, на поминках, а вроде бы была и в толпе – толком не поплачешь, сразу начнут нашатырь под нос пихать, или что там у них ментолом пахло.
– Дурак я дурак, – говорил дядя Боря оконному стеклу, – не приревновал бы её тогда, она бы, может, и не ушла. А так… Эх. Да, разве же это… Нельзя так.
Он раздавил сигарету в консервной банке, заменявшей пепельницу, и обернулся ко мне.
– Ну пошли, рёва-корова, Любовь Петровна ждёт.
На этом весь разговор и кончился.
Глава 3. Дневник.
На следующий день, в пятницу, я решила остаться дома. Было что-то неестественное в том, чтобы накраситься и пойти на учёбу, как ни в чём не бывало. К тому же, сегодня был дебильный день – математика и история искусств. Кто додумался поставить два этих предмета рядом? И вообще, зачем графическому дизайнеру математика? Ну, ладно-ладно, может и нужна, но я на неё не пойду. Была бы сегодня пропедевтика – основы композиции, тогда бы я, может, и пошла. А на математику можно забить.
Я выключила будильник и проспала до полудня. В последние дни я вообще много спала, во сне было легче, а просыпаешься – в первые секунды вроде ничего, а потом одно воспоминание о реальности, и тебя словно накрывает. Что-то такое банальное, но я не могла подобрать слов точнее. Просыпаешься – и накрывает. И опять тишина в квартире, и эти мыли ужасные…
Чтобы чем-то себя занять, я затеяла уборку. В маминой комнате, конечно, было чисто, поэтому я убиралась у себя. А потом решила разобрать почту, у нас с мамой это была семейная проблема – забывать вытаскивать газеты из ящика и вспоминать об этом только тогда, когда из щелочки начинала торчать макулатура. Я накинула куртку и спустилась вниз. Повыбрасывала рекламу, газеты забрала – мама всегда мыла окна только с газетами, а скоро их надо будет мыть. И на самом дне почтового ящика обнаружилась квитанция.
Вот и началось всё с оплаты счетов. Я взяла ЕПД за последний месяц и медленно побрела обратно. Мне нужно было его оплатить, я даже вроде бы представляла себе, как это делать, но смутно. На карточке у меня были деньги – недавно пришла стипендия, но просто раньше я никогда ещё не платила сама. Взрослая жизнь – это первая самостоятельная оплата жилья. Я принесла ЕПД в свою комнату, и включила компьютер. Что дальше?
И тут я вспомнила, что мама очень не любила закрывать вкладки в браузере. Она постоянно делала закладки, но, не смотря на это, всё равно оставляла вкладки открытыми. Я говорила ей, что так не надо, но всё было без толку. Мне так удобно – и всё. Но сейчас меня это даже обрадовало. Наверное, на её ноутбуке есть какая-то закладка для коммунальных платежей, она бы точно не стала закрывать вкладку, которую стабильно использует раз в месяц. Или сделала бы закладку на табло. И я пошла искать её ноутбук.
Он оказался рядом с тумбочкой с другой стороны кровати, она часто брала его в кровать, благополучно забив на то, что его нельзя ставить на одеяло. Вот такая у меня мама. Старенький ноутбук тупил страшно. Загружался минут шесть, я успела сходить в туалет и налить себе кофе, а он всё грузился. Браузер открывался ещё четыре минуты. Как она вообще на нём работала?
В ноутбуке действительно оказалось полным полно закладок, я смотрела и вспоминала.
Вспомнила, что можно платить через госуслуги, а можно через сбербанк. Странно, что такие простые вещи бывает так сложно вспомнить. Но всё это у меня мгновенно вылетело из головы, потому что одна из закладок была закладка на сервис онлайн дневников.
Мама вела дневник давно. Она говорила, он помогает структурировать мысли. И вслед за ней я тоже завела дневник, но писать бросила. А мама писала. У меня тоже был дневник, и он продержался долго, но исключительно потому что я читала Проститутку Кэт, пока мне не надоело. Я сама так ни разу и не написал ни строчки в дневнике.
Вообще-то, я бы хотела читать маму, но её страница была закрыта. Она объясняла мне, что настоящий дневник – это очень личная вещь, и что он нужен не для того, чтобы быть блогером, а для того, чтобы писать в нём о себе и писать честно, для себя. Я помню, как тогда обиделась на неё.
Но теперь-то я могу прочесть её дневник? Теоретически, могу, если только у неё введен пароль. А это не будет неуважением по отношению к маме? Всё-таки, дневник – это личное. Мне стыдно спать в её кровати, но не стыдно читать её дневник? С минуту я боролась с собой. А что сказала бы мама? Что сказала бы бабушка? Но, с другой стороны, этот дневник, и мамин ноутбук – это всё, что у меня от неё осталось. В конце концов, она могла выйти, а я понятия не имею какой у неё мог быть пароль.
И я, забыв про оплату счетов, с замиранием сердца кликнула на вкладку. Страница открылась, пароль уже был введен. Внутри меня всё возликовало. Но не потому, что я добралась до чего-то тайного, запретного, а потому что там, за этими строчками жила моя мама. Та, которая хотела познакомить меня с папой, но просто не успела…
Изнутри дневник выглядел немного устрашающе: темный фон и белые буквы. На фоне какие-то птицы: белые и чёрные, кажется, это журавль и ворон. Зачем она выбрала такое оформление?
Я начала читать, но разочаровалась: записи о клиентах, причём не упоминается ни одного имени, бесконечные О., К., А. Тут были мамины размышления о прочитанных книгах, по большей части не художественных, а если и встречались художественные, то всё равно было похоже на разбор клинического случая с кучей психологических терминов и диагнозов. Порой, правда, попадались записи о путешествиях, и я читала их с упоением: можно было пережить заново лучшие моменты из прошлого. Моменты, где мы были вместе с мамой, где мы ездили в отпуск, гуляли по набережным, поднимались на колокольни и встречали рассвет, когда солнце выныривало прямо из моря.
Я решила читать всё подряд, чтобы ничего не пропустить. Передо мной была мамина жизнь, и теперь, когда никто не мог уже мне об этом рассказать, оставалось одно – слушать, как мама говорит со мной со страниц своего дневника. Жаль только, мама писала не слишком часто, последняя запись была сделана ею за десять дней до смерти.
«Как по-разному мы чувствуем… Мне попалась в руки книжка одного из современных авторов, очень модного, такой легкий роман с детективным оттенком, какое-то популярное смешение жанров, но я забыла термин. Джон Питер Бристоль – вроде как англичанин или англичанин американского происхождения, не очень понятно, забавно другое, а именно, как он описывает чувства. Всё: гнев, любовь, желание, ненависть, отвращение – все через телесные метафоры, только через физические ощущения. «В груди что-то кольнуло, сердце моё сначала остановилось, а потом припустилось, будто лиса из кустов», «я не заметил сам, как скривил рот, а во рту стало так кисло, будто бы я откусил сразу пол лимона», «я попытался сделать вдох, но лёгкие не слушались, казалось, кто-то сдавил мне грудь». Ты читаешь, переживаешь то, что он описывает, и только потом пытаешься это как-то интерпретировать: ага, это страх, а это отвращение и т.д.
Как будто чувство невозможно описать по-другому, я не говорю уж о том, чтобы просто написать «я испугался». Хорошо, если тут важна претензия на оригинальность, почему бы не использовать другие метафоры? Я испытал такое чувство, будто оступился и запачкал ботинок в коровьей лепёшке. Ну, хорошо, писатель из меня так себе, но я хочу сказать, что физическая сторона – это не единственный способ интерпретации собственных чувств.
А самое интересное – его очень хвалят. Это какая-то новая модная тенденция – фиксация на телесном. Мне вспоминается коммунизм с его полным погружением в материализм и отрицанием психики как чего-то абстрактного, что невозможно потрогать, а значит, невозможно и изучить. И здесь так же: если чувство не вызывает отклика в теле, что же это за чувство тогда такое?
Как это грустно – уметь распознавать свои чувства исключительно через тело. Бежать, бежать и бежать, и только падая с ног понимать, что ты устал. Фиксироваться на количестве вдохов, на сокращении мышц, на ногах, отталкивающихся от земли – и полностью игнорировать тот страх, или то желание, что и являются причиной бега. Очень печально».
В дневнике было двадцать две страницы по несколько десятков записей на каждой. Записи были разной длины – были совсем коротенькие, в пару предложений, в основном они назывались «инсайты» или «мысли», а были длинные, на пару страниц А4. Я впивалась глазами в монитор и читала, читала, ничего не пропуская.
«Фотография – это настоящая магия! Как-то всё более или менее ясно с врачами, бухгалтерами, плотниками, сантехниками – да со всеми, кто работает руками. Люди учатся что-то делать и потому делают это хорошо, гораздо лучше, чем ты – это понятно и логично. У них есть специальные инструменты для этого, какие-то особые профессиональные штуки, специальные приборы, а у фотографов только их глаза и фотоаппарат. И ведь самое главное – мы все видим одну и ту же картинку! Одну и ту же… Но один снимает её так, что вообще ничего не понятно, а у другого шедевр. А самое главное, что тут результат – это и есть сам процесс! Врач назначает хитроумные анализы, изучает их, бухгалтер работает с цифрами, сантехник знает, где и что надо завернуть и каким ключом это надо делать, а тут один взгляд, щёлчок затвора – и перед тобой произведение искусства. Всё на виду, всё на ладони! Ты смотришь на готовую фотографию, видишь, что предмет на переднем плане как бы выхвачен камерой, а фон сзади размыт. Но почему ты чувствуешь то, что хотел показать тебе фотограф? Как он передаёт тебе свои эмоции?
Кажется, это легко? А ты попробуй повтори – возьми в руки тот же фотоаппарат и попробуй снять так же. Секрет в фотоаппарате, во вспышках, отражателях? Да ну! Я видела такие снимки на камеру обычного телефона, что просто дыхание перехватывает. Попробуешь повторить, а не то получается, совсем не то. Это потрясающее волшебство – это умение видеть, видеть красоту, уметь её поймать.
Ты видишь оригинал, видишь результат – они одинаковы, и в то же время разные. Ты видишь, чем они отличаются, и совершенно не представляешь чем именно и как это повторить. А главное, что тут нет ничего, никаких хитростей – только глаз фотографа. Вот это и есть настоящее волшебство».
Надо же, а я никогда и не думала, что мама так восхищается фотографией. А там на Винзаводе сейчас как раз выставка хорошая идёт, ей бы понравилось, наверное. И ведь ещё неделю назад мы могли бы вместе сходить…
«То чувство, когда впервые читаешь о приключениях Шерлока Холмса. Или впервые идёшь на концерт. Впервые смотришь the Wall.
Потом всё пытаешься развернуться, и попасть туда, где это всё было впервые, а всё не то. Смотришь, слушаешь, читаешь, но ведь уже знаешь, что будет дальше. И чем дальше живёшь, тем больше того, что ты уже где-то слышал, где-то видел и где-то читал. Нет этого ощущения новизны…
Пытаешься воскресить то чувство, но нет. Такого не испытать дважды. Кажется, что я всё помню – руки, губы, слова, но нет. Я пытаюсь вспомнить, хотя бы вспомнить, не то, чтобы заново пережить! но это невозможно так же, как нельзя вернуть вчерашний день».
Это, интересно, о чём было? Руки, губы, слова…
Я ждала пояснений, но какое там! Дальше шли мамины размышления об Антигоне. Она ходила на спектакль без меня, судя по записи, с какой-то коллегой. Губы, руки? Нет, что-то мне не верилось.
Потом шли мысли на разные профессиональные темы: у неё была клиентка, сын которой сидел за непредумышленное убийство, и ещё одна, которую мужчина бросил ради её же дочери. Мама много размышляла об этом и с психологической, и с этической точки зрения, и даже сравнивала два этих случая. И я поняла, почему её дневник был закрыт – клиенты вряд ли бы обрадовались, если бы она обсуждала их вслух. Нечаянно набрёл бы на такое в интернете – и всё. Раскрытие профессиональной тайны, скандал и прощай репутация, прощай запись на две недели вперёд.
А вот в одном месте у меня вдруг ёкнуло сердце: запись примерно трехнедельной давности.
«Вчера пришлось отменить всех клиентов. Голова болела так, что не могла работать, и болит ведь, зараза, всегда в одном и том же месте. Вот так-то, даже страшно делается. Ощущение такое, будто внутри моего мозга лежит бомба, а я слышу, как тикает часовой механизм – там уже заведён таймер. От этого становится жутко страшно. Страх похож на медузу: холодный, склизкий, бесформенный, но с парализующим ядом.
Таблетки не помогают, темнота больше не спасает, кажется, что ещё чуть-чуть и голова просто лопнет и разлетится на маленькие осколки. Ой, мама, это даже больнее, чем рожать! Вчера голова болела семь часов. Семь часов без перерыва! Это почти полный рабочий день. Сегодня – пять. В итоге два дня просто вычеркнуты из жизни, а так ли много мне осталось? Два дня посвящены боли и лежанию на диване.
В такие дни, кажется, что смерть милосердна. Кажется, что просто умереть – это ещё не самый плохой вариант. Единственное, чего я боюсь – это выжить после инсульта. Остаться парализованной, немой, потерять работу, потерять самостоятельность и стать обузой для Вики. Хотелось бы, чтобы всё случилось быстро, и да, очень трусливо, но мне хочется ничего не почувствовать».
Мама, мама… Как же так? Почему хорошие люди должны так страдать? Она писала об этом в своём дневнике. Там было ещё много про головную боль.
Запись от 28 февраля. Три недели назад.
«Сегодня упала в обморок на улице прямо перед кабинетом. Второй обморок за месяц. Судя по всему, меня подхватил кто-то из прохожих, я даже не запачкалась. Пришла в себя быстро, но голова потом гудела и весь день была какая-то чугунная. Я помню, у мамы был такой ярко-оранжевый чугунный горшок для каши, она его так и называла – чугунок. Он был такой, как в детских книжках: снижу поуже, потом пошире и сверху опять поуже, для ухвата, чтобы ставить в печь. И он был жутко неудобный, потому что тяжелый и взять его можно было только полотенцем, если брать прихваткой – мог выскользнуть, ручек-то нет. Так вот, моя голова весь день была в точности как тот горшок: тяжелая и неподдающаяся. Я ей таблетку – а она всё равно болит».
И вот ещё раньше:
«Теперь я понимаю, почему говорят «адски» болит голова. Потому что это действительно адская боль. Абсолютно невозможно думать, контейнировать, сопереживать – жить. Я не могу чувствовать ничего, кроме этой боли, она вытесняет собой всё. Самое страшное, что и всё хорошее тоже. Ничего невозможно делать.
Вот же бывает ведь так: какой-то маленький сосудик не в порядке, совсем крошечный, а проблемы от этого гигантские. Сколько она там? Не помню. И память стала подводить, вот же ужас.. я забываю имена клиентов. Забываю назначенные встречи и забываю, что хотела купить в магазине. Это просто какой-то кошмарный сон…