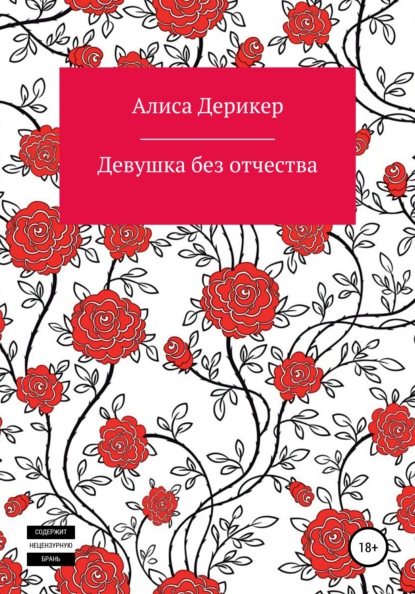По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Девушка без отчества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да как же так?! Дочь вперед матери, – голос бабушки дрогнул, и рюмка у неё в руке задрожала. И она разрыдалась, а вслед за ней разрыдалась и я. Над нами долго кто-то махал руками, как курица-наседка крыльями, бабушке что-то капали в рюмку с водкой, мне тоже совали под нос какую-то ментоловую дрянь, а я отбивалась, и, кажется, в итоге опрокинула этот пузырёк. А потом всё стихло, и сквозь слёзы в голову начал продираться бабушкин голос.
– Никому не пожелаешь. Откуда? У нас в роду все долгожители. У всех хорошие сосуды были.
– Точно-точно, – важно поддакивала бабВера.
– Папа наш, царство ему небесное, до девяноста двух дожил, мама в восемьдесят шесть ушла, Зоя в восемьдесят три, Галина Иннокентьевна то ли в девяносто один то ли в девяносто два. Скажи, Вер! А дочь….
И бабушка завыла. Реально завыла, как собака. Я оторопела. Была в таком шоке, что даже перестала плакать. В голове крутилось только одно: деда-то она забыла. Дедушка Серёжа, умер в шестьдесят девять от инфаркта. Но я не стала ей об этом напоминать.
Во время «перемены блюд», когда немногочисленные мужчины вышли на лестницу курить, а бабушка грела горячее, ко мне подошла баба Лиза, наша бывшая соседка по даче, и тихо-тихо стала мне что-то говорить.
– Люба только отмахнулась, но я всё равно должна предупредить, ты не представляешь, сколько сейчас мошенников и всяких прохвостов! – тараторила она, – будут звонить, представляться маклерами этими, риелторами, глазом моргнуть не успеешь, квартиру отберут. Они знают, что тебе сейчас тяжело, что тебе будет трудно жить в квартире, где каждую минуту всё напоминает о маме. Трубку не бери, ни с кем даже не разговаривай! Тебе бы сейчас какое-то время бы у Любы пожить. Вам обеим так бы легче было, а там глядишь, и придумаете чего-то…
– Лиза, ты где?
– Чаво?! – вздрогнула баба Лиза.
– Иди помоги!
И на этом инструктаж и оборвался. Я была рада. Сейчас было просто невыносимо слушать чьи-то советы. И с чего она взяла, что мне будет тяжело жить в нашей с мамой квартире?
С кухни потянуло жареными куриными ножками. Жирными ножками. Как они могут есть? Меня воротило от запахов еды. За сегодня я съела блин в старом автобусе и немного салата сейчас за столом. От одной мысли о жареной курице мне стало плохо. Больше всего мне хотелось, чтобы всё это уже кончилось, и все эти люди бы разошлись по домам. Я старалась не думать о том, что они оставят после себя горы грязной посуды. Неужели я бабушке даже с посудой не помогу? Но мыть это всё…
Но когда стали убирать посуду после горячего перед чаем, я будто бы проснулась. Мне вдруг захотелось оглядеться вокруг и поговорить с кем-то о маме. Только не с бабушкой. С кем-то, кто знал маму с другой стороны. В самом деле, неужели тут только бабушкины приятельницы? Должны же у мамы быть друзья.
Женщин маминого возраста было всего три, и я ни одну из них не знала. Я вдруг поняла, что я вообще не знаю маминых подруг.
– Ба, а кто-нибудь из маминых подруг-то был?
– А как же? Вон Ирка, та, с короткой стрижкой, Надежды Марковны дочь. Маруся на кладбище была ещё.
– А Ирка – это кто? Они с мамой как познакомились?
– Да соседи наши по даче были. Пока мы дачу не продали, они каждое лето вместе проводили. Не разлей вода девки были.
Бабушка вздохнула. Деревню, настоящую деревню, она всегда предпочитала даче, поэтому на тех восьми сотках, что ей достались, она распахала такой огород, что стонали не только мы с мамой, но и все соседи. Пожалуй, только дядя Боря не стонал. Ему на самом деле нравилось копать картошку и таскать на себе пыльные мешки. А ещё, как мне рассказывала потом мама, они любили с дедом спрятаться за баню и «дегустировать» там. Что они дегустировали, догадаться было не трудно. Вот поэтому дядя Боря дачу и любил.
Я нахмурилась. Вряд ли эта Ирина с дачи могла что-то знать о моей маме, о маме сегодняшней.
– А кто такая Маруся?
– Так уехала она. Не поехала на поминки.
– Почему?
Бабушка нахохлилась.
– Да я что-то и не сказала ей, закрутилась и как-то… Эх, – она махнула рукой.
– Понятно. А вон та женщина – это кто? Это Анна? – вспомнила я, потому что женщина подошла к бабе Вере и что-то стала тихой ей говорить.
– Она-она, Нюрка.
– А это кто?
– Рыжая что ли? Так это Валентины Степановны дочка. Они с твоей мамой в музыкальную школу вместе ходили.
– Мама закончила музыкальную школу? – удивилась я.
– Не закончила, бросила. И что ты всё выспрашиваешь у меня? Вон иди лучше посуду собери со стола.
Я пошла за посудой. Ирина стояла у шкафа и рассматривала фотографии, которые бабушка вставляла между стёклами. И я решила подойти к ней и завязать разговор.
– Вы хорошо знали маму? – спросила я.
Она вздрогнула, будто не слышала, как я подошла.
– Нет. Мы очень дружили в детстве, но потом твоя бабушка продала дачу, и мама перестала приезжать. Мы с ней переписывались одно время, – извиняющимся тоном сказала она, и я поняла, что это дохлый номер.
Так я никого не найду, кто мог бы хоть что-то знать о маме.
– Наши мамы поддерживали отношения, – Ирина будто бы поставила точку в разговоре.
В комнату вперевалочку вплыла Надежда Марковна, которую мучила одышка при каждом движении, и Ирина бросилась ей помогать.
– Извините, а вы хорошо знали мою маму? – подошла я к рыжей дочери Валентины Степановны, нисколько не смутившись тем, что бабушка даже не сказала мне её имени.
– Ну, не так, чтобы, – замялась она, – мы с ней дружили когда-то. Мы в последнее время переписывались в интернете…
Снова мимо. Все какие-то чересчур старые знакомые. Просроченные. А мне – так и вовсе незнакомые. Что вы все вообще тут делаете? Зачем вы приехали?
И где живые люди? С кем дружила, общалась моя мама в последние годы? И, кстати, вдруг осенила меня гениальная мысль, а кто был её супервизором?
– Вон иди у Бори спроси, с кем мать общалась, – шепнула бабушка мне в самое ухо, – поди, он знает получше моего.
И я пошла к дяде Боре. Дядя Боря был старше мамы лет на пять или шесть. Поначалу, когда они начали встречаться, мне он очень не нравился: от него всегда резко пахло, и ещё он крал у меня мою маму. Потом мы переехали к нему. Мне было года четыре, я плакала и говорила, что останусь жить с бабушкой и дедушкой, и никуда не поеду. Потом я привыкла к его присутствию, к его запаху, к ногтям в заусенцах и пугавшим меня шуткам. У нас с дядей Борей было абсолютно разное чувство юмора.
И хотя дядя Боря всегда держал со мной дистанцию, под конец мы с ним притерпелись что ли, и у нас даже появилось что-то отдалённо напоминающее симпатию. Нет, я бы всё-таки не назвала это симпатией, скорее – согласие. Ну, всё равно же не деться никуда.
Дядя Боря стоял у окна на лестничной клетке и курил. Вся одежда на нём была до нельзя прокуренная: и куртка, и кепка, и ногти на пальцах у него пожелтели от никотина, а на щеках была неаккуратная, неравномерно седая щетина. А ещё у дяди Бори из ноздрей торчали волосы, и это тоже было очень неприятно. Я никогда не понимала, что моя мама могла в нём найти. И сейчас меня это испугало: если ей нравился вот такой вот дядя Боря, вдруг и мой папа такой же?
– Дядь Борь, – позвала я. Он только хмыкнул в ответ, показывая, что слышит меня, даже не обернулся.
Я не знала, что спросить, и он молчал. Он никогда не отличался чуткостью. Эмпатия? Нет, не слышали. Скорее равнодушие и косноязычие. И – да, мне он казался человеком, слепленным только из отрицательных качеств. Может, спросить у него про отца, вдруг, он что-то знает?
– Дядь Борь, – сделала я второй заход, – а у мамы друзья вообще были?
Он даже обернулся – не ожидал такого вопроса, и сам вопрос его удивил. «Друзья? А зачем они?» – читалось в его глазах, и я поняла, что этот разговор – ещё одна пустая трата времени.