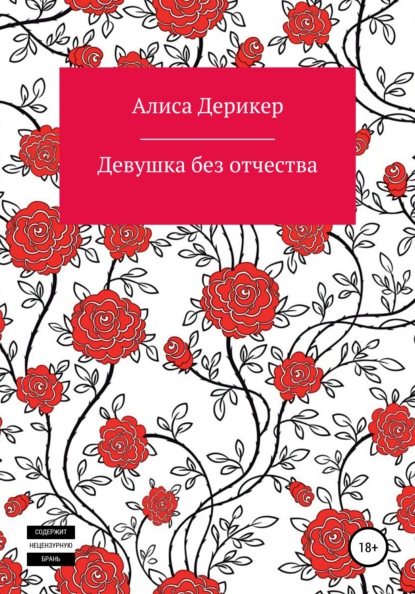По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Девушка без отчества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Было что-то неправильное в том, что ни для кого из моей группы ничего не изменилось: люди всё так же ходили на пары, слушали лекции, обсуждали преподов, презирали ботанов-всезнаек, а у меня рухнул мир. Противно. Всё это было как-то противно.
Хотелось бросить им всем в лицо, что я их ненавижу и презираю. Почему? Я не знала сама. Может быть, потому что у них ничего не изменилось. Их не тронула смерть моей мамы, никого из них, кроме бабушки и дяди Бори. Вон даже бабВера к своим уже уехала.
Я смотрела в окно: люди всё так же гуляли по улицам, ходили в магазин, в кино и в кафе, мои сокурсники слушали лекции, а я не могла. Мне даже дышать стало труднее, с тех пор, как мамы не стало. Как можно делать вид, будто ничего не произошло?
Хорошо, что фон у маминого дневника был тёмным: было легко читать его именно ночью. И ещё он попадал в моё настроение. Правда, читать оказалось тяжело: мама в целях конспирации даже в закрытом дневнике почти не упоминала имён. Я охотилась за этим таинственным мужчиной, скрывающимся под кличкой «Он», но, похоже, что были ещё и другие.
Например: «Этот не такой как Б., и не такой, каким был Он. Мы сходили в кафе на прошлой неделе, но на этом всё и кончится. Мне не хочется продолжать это знакомство, потому что ему не хочется считаться с моими границами».
И ещё: «Очередное свидание. Два часа потерянного времени. О чём можно говорить с человеком, который самым крутым фильмом считает сериал, о, я даже название забыла!, и впервые читает «Мастера и Маргариту» в сорок шесть лет?».
«Когда-то я смирилась с тем, что могу сказать о себе "десять лет назад" и попаду в сознательный возраст. Сегодня я уже говорю "двадцать лет назад", и попадаю в границу своей юности и взрослой жизни. И меня это пугает. Может, у меня просто молодость была короткая?
Радио создает иллюзию того, что мир вокруг меня неизменен: десять лет они крутят одни и те же песни, иногда разбавляя их чем-то "новеньким" на что ты неизбежно думаешь "фигня какая-то, группа-однодневка", проходит год-два и эта «фигня» и правда пропадает из эфира, а её место занимают другие такие же бабочки-однодневки, но, в целом, репертуар не меняется, и кажется, будто и ты, его слушающий, тоже не меняешься.
Ты продолжаешь считать, что где-то ещё продают гриндерсы и камелоты, что кто-то их еще носит, и ходит в походы, в которых люди сидят на брёвнышке у костра, а налобные фонари – это крутое освещение.
Ты веришь, что где-то, в ларьках и палатках, еще продают коктейли в алюминиевых банках: стрит, хуч, ягуар, а кто-то, пришедший тебе на смену, их до сих пор пьёт. Ты веришь, что Матрица – наикрутейший фильм, а нынешнее поколение о ней даже не знает! Ты думаешь, кумиры нынешней молодёжи те же, что и у тебя, но всё это – иллюзия. Нет больше того мира, где играли в эльфов и хоббитов деревянными мечами, потому что ничего другого не было; где орали под гитару "всё идет по плану", где жгли костры; где были неизвестные песни, исполнителя которых нужно было ещё искать, а музыку добывали и берегли, как огонь; где мир был настолько суров, что никому не приходило в голову ходить зимой в кедах без носков.
Радио поддерживает иллюзию, что ты можешь сказать "а вот десять лет назад" вместо двадцати.... но это только иллюзия. Тот мир с растворимым кофе, без бумажных стаканчиков на вынос, без сотовых, тот мир романтики, в котором еще было место звездному небу и совам, летающим у метро, тот мир уже мёртв.
Я бы хотела увидеть Его. Посмотреть, как Он изменился за эти годы. Вспомнить вместе с ним тот мир, которого больше никто не знает».
Моя мама была странным психологом: она проливала свет на чужую жизнь, а свою прятала в тени. Удивительно, как ей удалось всё так зашифровать, что теперь и не разберёшься. Или она это не специально? Может, это как клубок ниток: оставляешь вязание в пакете на неделю, а когда достаёшь – там сплошной колтун. У меня так было, когда я вязала на уроках труда. Смотришь на этот колтун, и отчего он образовался, вообще никому не понятно.
Мне было интересно, какой она была. Моя мама – она ведь когда-то была не моей мамой, в смысле, она была просто девушкой, которая понятия не имела, что родит именно меня. Она так же, как и я не любила философию? Нет, судя по её текстам, с философией у неё всё было нормально, это я её терпеть не могу. А Она любила танцевать? Ходила в бильярдную или в боулинг, как ходили мы с ребятами? Она пила кофе или мате? Прогуливала ли лекции? И, если да, то что делала в это время?
И я решила читать наоборот, не с конца к началу, а с начала к концу – ведь это гораздо логичней. Я щёлкнула на самую первую страницу, пролистала к самой первой записи – 2 февраля 1999 года (прошлый век, подумать только). Запись была лаконичной: «сегодня я начинаю вести дневник, посмотрим, что из этого выйдет». Потом была ещё какая-то мутная заметка о сне, которую я не поняла, описание семейного торжества, впечатления от «Матрицы» – ничего действительно интересного, но я зачиталась. Мне стало любопытно, какой была моя мама тогда, на третьем курсе. Я же правильно посчитала, в 1999 она была на третьем курсе?
11 марта 1999: «Я вот тут подумала, что в любом институте, на любом факультете среди студентов всегда есть случайные люди. Они получают образование, но потом не работают по специальности ни дня, ну, просто так получилось, что каким-то ветром их занесло туда, куда занесло: их поступили в этот ВУЗ родители, или будущая профессия виделась другой, или просто это было модное направление, как когда-то инженеры и космонавтика. Сейчас вот, стоматология в моде. Пройдёт ещё лет десять-двадцать, и стоматологов девать будет некуда.
У нас такой случайный человек был. Это, конечно, Косулин. Никому вообще не было ясно, что он тут забыл. А вот теперь оказывается, Влад: он на социологию вслед за Ленкой перевёлся. Я бы к случайным, пожалуй, ещё и Перчика бы причислила.
Я это сегодня поняла, на семинаре по подросткам. Ну такую пургу гнать это же надо было три года просто не слушать вообще ничего, уши заткнуть на три года! Я как представила, что к ней родители своих подростков приводить будут, мне аж плохо стало… А ещё она Фромма и Эриксона путает. А ведь единственное, что их связывает, это имя Эрик».
1 апреля 1999: «Идиотский день. Домовой, чтоб ему было неладно, обзвонил всех накануне и сказал, что колок по психиатрии передвинули с 12 на 8. И ведь звонил же, наглец, в первом часу ночи – знал, что никто не спит, все готовятся. И так перед мамой извинялся (это она трубку взяла), что она аж растаяла. Какой, говорит, милейший молодой человек тебе звонит, такой воспитанный, ну такой вежливый!
Позвонил, сказал, что всем надо быть к 8 утра, потому что Тошечка будет отмечать и злостно карать за опоздания (это мы, положим, и без него знали, что на психиатрию лучше умереть, но прийти). И я как дура припёрлась. Все припёрлись, кроме Домового и Тошечки. А он вообще был не в курсе! Когда его разыскали на кафедре, он так хохотал! Что, говорит, разыграли вас, дураков? Так вам и надо. Сидите и учите, до 12 время есть.
Заставили Домового отвечать последним, но этого мало. Думаем теперь, как отомстить. Тихоня тихоней, а такое выкинул…»
6 апреля 1999: «Мы с Ленкой очень отдалились. Сегодня встретила её в буфете с двумя девочками, поздоровалась, и она тоже со мной, т.е. как поздоровалась, она мне кивнула и вернулась к своему разговору. Не спросила как дела, как колок, не писал ли опять Один – ничего. Я знала, конечно, что так и будет, и не то, чтобы боялась этого, как-то готовилась внутренне, но всё равно это так неприятно. После того, как она перевелась на свою социологию, мы ведь с ней ещё долго общались, встречались после пар, обедали вместе, радовались, когда у нас расписание совпадало, и мы в одном здании оказывались.
Наверное, просто дело в том, что Ленка уже нашла мне замену, а я ей нет, поэтому я так ревную и переживаю».
19 апреля 1999: «Это было сильно! Лекционная аудитория, весь поток сидит и ждёт начала лекции, и тут встаёт наша Перчик со своей первой парты и обращается ко всему потоку с призывом выйти на первомайскую демонстрацию. Мол, Первомай – это день Мира и Труда, так давайте трудиться за мир во всем мире, нет бомбардировкам, долой войну и всё такое. С месяц назад, наверное, она призывала всех выйти к посольству США (и ведь ходила же туда, кричала, рассказывала потом, как кто-то свиную голову за забор кинул), а теперь вот митинг. Ну, Перчик – она такая. Не от мира сего немножко. Меня глаза её пугают: отрешенные они у неё какие-то, будто большую часть времени она не тут проводит, а где-то в параллельном мире.
И посередине её речи вваливается в аудиторию Костик Обольский из четвёртой группы. А он всегда такой, будто он опоздал уже безбожно и припёрся исключительно потому, его только-только разбудили: волосы взъерошенные, рубашка наполовину заправлена, наполовину торчит. И вот он вваливается, слышит этот призыв, и выдаёт: «Удел женщины – владычествовать, удел мужчины – царить, потому что владычествует страсть, а правит ум». Перчик оборачивается, видит этот чучело, а за ним – Поевскую в дверях, и разумно всё взвесив, разумеется садится на своё место тихонько, пока её не вышвырнули из аудитории. А он-то не видит! Заканчивает говорить, в зале тишина, естественно, гробовая, он ещё ничего не понял, думает, это ему внимают и пафосно так произносит: «Это Кант, дорогие товарищи, Иммануил Кант сказал».
Тут Поевская, известная феминистка и мужененавистница, приходит в себя, и говорит: «Ну раз Кант, тогда садитесь на место, молодой человек. И впредь извольте философствовать письменно, на коллоквиумах». И начала лекцию, как ни в чём не бывало. А этого раздолбая теперь весь факультет Кантом зовёт)))».
Остальные записи были простой болтовнёй вроде шуток Домового и мелких высказываний, превращающихся потом в прозвища. Ещё были смешные институтские истории, впечатления от походов в кино, обычные записи. Но была и ещё одна очень-очень странная. Я её не поняла.
10 октября 1999: «Зачем она мне это прислала? Я сижу, смотрю эту пошлятину и не могу понять, зачем? «Ну, просто. Чтоб ты знала» – ответила она мне. И ещё: «это мне Артур прислал». Хорошо, теперь я знаю, что дальше?
Мне вот теперь интересно, кому ещё она это переслала? Наверняка ведь, не мне одной. Да без сомнения, не мне одной!
Противно. Даже не столько противно от увиденного, сколько противно от самого поступка. Зачем? Опозорить Перца? А то ей мало от жизни досталось.
Сука. И в тоже самое время, я понимаю, что невозможно относиться к ней, как раньше. Я буду её презирать или жалеть, но моё отношение к ней УЖЕ изменилось. Этого они и добиваются? Это же буллинг! И что мне делать? Сказать преподу? Кому?
Промолчать и подождать, что будет дальше? А если я сейчас начну обсуждать с кем-то эту тему, пущу волну, а всё обойдётся? Какая мерзость. И так, и так – мерзость.
И что мне делать теперь с этим файлом? Поначалу я его, конечно, стёрла. Потом восстановила. Потом решила спрятать. Не знаю, зачем. Это компромат, конечно, но вопрос ещё на кого.
Всё-таки, я дура. Но я это слишком поздно поняла, нужно было сам файл удалить, а переписку нашу с ней в почте оставить».
Зазвонил телефон, перебив мои мысли, и я схватила трубку. Незнакомый номер. Сотовый. Сердце радостно заухало. Почему-то я ждала звонка только от одного человека.
– Алло!
– Вика, здравствуйте, меня зовут Артём, – это было первое разочарование, хотя голос у Артёма оказался приятным, – я риелтор и я случайно узнал, что вы собираетесь продавать квартиру.
Ощущение было как в скоростном лифте в МГУ, хотя такие лифты есть и в некоторых жилых высотках. Когда лифт останавливается, вся кровь бросается тебе в голову и на секунду закладывает уши.
– Я не продаю квартиру! И не звоните мне больше! – рявкнула я и швырнула телефон.
Руки отчего-то тряслись. Телефон завибрировал снова: тот же номер. Я сбросила звонок, пометила его как мошенников и внесла в чёрный список. И только тогда немного успокоилась. Но Артём меня немного отрезвил.
Похоже, действительно придётся переехать к бабушке, а эту квартиру сдавать. Оплата ЕПД ясно показала мне, что одной мне жить будет не на что. Стипендия у меня вообще смех, поэтому даже, если я найду подработку, мне всё равно не хватит на еду, проезд и квартплату.
Но всё равно было противно. Противно то, что я постоянно должна всем всё доказывать: доказывать свою самостоятельность, своё право жить так, как я хочу, и платить за жильё. А самое паршивое, что платить-то нечем…
Я решила, что обсужу это с бабушкой позже, вернулась к дневнику, и читала, пока меня не сморил сон.
Глава 4. Телефонная книжка.
В субботу у нас была только одна лекция, и я опять забила. Вообще должна была быть лекция и колок, но мы его перенесли на понедельник. Я решила лежать дома и чилить, больше ничего и не хотелось. Бабушка всерьёз беспокоилась за меня. Я сама ей проговорилась, а она начала меня отчитывать. Теперь уже она захотела, чтобы я к ней поскорей переехала, потому что так она будет меня контролировать.
Я впервые задумалась, откуда взялась эта квартира. Сначала мы жили у дяди Бори на Кожуховской. Там была небольшая двушка, примерно такая же, как наша, только без балкона и с совсем крошечной кухней.
Я помню, как мы переехали, я уже ходила в школу… Какой это был класс? Пятый, наверное? Или шестой? Да, это же было незадолго до их развода, точно.
Мама сама заработала на эту квартиру. Тогда мне это казалось вполне естественным, а сейчас я думаю, что она, наверное, очень много работала. У нас хороший район и дом новый, я даже не представляю, сколько может стоит двушка в Москве в кирпичном доме в пяти минутах от метро.
И, кстати, о квартире. Бабушка отдала мне мамино свидетельство о смерти. Мне теперь надо сходить в МФЦ, чтобы маму выписали из квартиры и сделали перерасчёт за воду и отопление. Решила, что пойду в понедельник.
А вчера же я ещё ходила в салон связи, отнесла мамин телефон. Экран разбит, но сам телефон-то работает – он звонит, но я не могу снять трубку и не вижу, кто звонит. Двое парней в униформе покрутили телефон в руках, внимательно выслушали мою историю, зачем-то дважды переспросили, действительно ли симка зарегистрирована не на меня, почесали в затылках и предложили сходить на радио рынок. Вот этим мне тоже предстояло заняться.