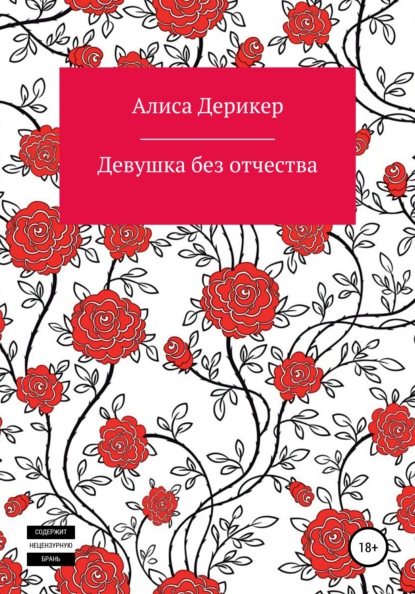По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Девушка без отчества
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На женщинах были какие-то сектантские убожеские хламиды мышиного цвета, торчавшие из-под стеганых курток. Я бы не удивилась, если бы под платьями обнаружились небритые ноги. Хотя, какое мне дело? И почему я вообще подумала о ногах?
Бесформенные платья неопределенных оттенков вошли в моду недавно, но что-то подсказывало мне, им всем было глубоко чихать на моду. Пожалуй, в каждом из этих людей читалось если не презрение, то какое-то равнодушие к своему внешнему виду.
Я подошла поближе, сделала вид, что устала и хочу посидеть. Присела на скамейку рядом и стала слушать. Они определённо говорили о ней. Толстяк вспоминал что-то и то и дело вставлял «мы с Соней тогда подумали», «мы с Соней решили», «когда мы с Соней ездили». Мне показалось, он хочет выдать их знакомство за более близкое и хвастается что ли этим, а на самом деле он её не так уж хорошо и знал. Но как же мерзко он при этом лыбится! Вот же отвратительный тип.
Остальные кивали, тоже что-то говорили. Одна из женщин вспоминала, как мама помогла ей. «Соня мне такого специалиста нашла, а я её и поблагодарить-то не успела». Интересно, неужели для того, чтобы сказать «спасибо» нужно много времени? Или она не о том? Подумав, я всё же решила к ним подойти.
– Здравствуйте, – сказала я, и на меня посмотрели с недоумением.
Точно какие-то левые люди – были бы друзьями, узнали бы меня сейчас, а у этих лица, как у стада баранов.
– Я Вика. Сонина дочь.
– Ох, здравствуйте, Вика, – тут же вздохнула одна из тёток.
– Примите наши соболезнования,– подхватила другая.
– Это такая трагедия!
– Как же жалко!
– Скажите, вы знали мою маму?
– Да, мы учились вместе.
– Совсем недавно заканчивали курс по современным методам психотерапии, – с гордостью вставил толстяк.
– Понятно, – сказала я, развернулась и пошла в церковь.
Службу я запомнила плохо. Маме положили на лоб какую-то тряпочку с круглой пентаграммой. Было ужасно противно смотреть на эту тряпочку. Да и на её, такое чужое теперь лицо тоже смотреть было неприятно, но оторваться я не могла. Неприятно было именно то, что сходство с мамой было весьма условным. Но из всего, что было вокруг, я только и могла смотреть, что на мамино лицо, оно притягивало меня, как магнитик к холодильнику.
Ещё помню, что было светло, и был очень высокий потолок, а стены до самого потолка были все в иконах. И очень красиво пели, а я никак не могла понять, откуда же раздаются голоса. В покоище твоём господи. Голоса взлетали под самый потолок, да даже и не потолок, свод храма, и казалось, что там, сверху, для нас поют ангелы. Помилуй нас боже. Как я буду теперь без неё? Молимся об упокоении души рабы божьей. Мама, как ты могла меня оставить? Как ты могла? Господь смерть поправший. Ты меня оставила тут одну. Как ты могла?!
И очень сильно пахло ладаном. Так сильно, что я начала чихать, не останавливаясь. Я чихала в платок, стараясь делать это потише, но в самом конце случился казус. Священник замолчал, смолкло и пение, повисла пауза, и в этой тишине я захотела зевнуть. И чихнула с открытым ртом так, что эхо улетело куда-то под свод, к ангелам, а потом звучало в ушах ещё несколько секунд. От стыда я выбралась из церкви, и остаток времени ждала снаружи, стараясь слиться с ландшафтом и стать невидимкой. Мне очень хотелось спрятаться. Хотелось, чтобы на меня не смотрели, не подходили ко мне и ничего не спрашивали. На меня и не смотрели почти. Отпевание кончилось, и толпа повали наружу.
Больше я маму не видела. Из церкви гроб вынесли уже закрытым, и больше его не открывали.
Мы приехали на кладбище. Вопреки моим представлениям, здесь не было ни надгробий, похожих на памятники, ни замысловатых кованых оград, покрытых патиной, ни старых могил. Это было просто поле, огромное поле, окруженное со всех сторон деревьями. Поле, расчерченное на могилы. Зато тут было неожиданно грязно. Конечно, тут же свежие могилы копают. В земле. А я-то даже не подумала, выглянула в окно и увидела сухие тротуары, и легкомысленно надела новые ботинки.
Тут было много дешевых искусственных цветов, вызывающе ярких и до безобразия вульгарных. Были совершенно одинаковые, будто под копирку наштампованные чёрные таблички с золотыми буквами и цифрами: фамилии и годы жизни. Такие одинаковые, будто люди, для которых эти таблички делали, были вовсе не людьми, а какими-то единицами. Ещё были огромные деревянные кресты и низкие-низкие заборчики. Я в первый раз в жизни была на похоронах.
Из ««газели»» достали гроб и в крышку вбили гвоздь.
В этот момент я разрыдалась, потому что только сейчас поняла, что значит выражение «как гвоздь в крышку гроба» – это навсегда. И я поняла, что больше никогда-никогда не увижу маминых глаз. Не обниму её. Не услышу её голос. Не расскажу ей, как прошёл день. Не посмеюсь вместе с ней. Это такая неотвратимость, такая жуткая безысходность, какую невозможно даже описать. И я заплакала.
Дул острый и холодный, как лезвие ветер. От него жгло щёки и сводило уши, не спасала даже шапка, а слёзы становились будто металлические, и лицу делалось очень неприятно, казалось, что слёзы сейчас замёрзнут прямо в глазах. Казалось, слёзы поцарапают или даже разрежут мне глаза, и мне придётся закрыть их навсегда, как маме.
В углу участка я увидела приготовленный крест. Большой и деревянный. Я хотела сказать бабушке, что это пошлость, что лучше было бы поставить гранитную плиту, но она шепнула мне, что крест – это временно, что кресты ставят над могилами, пока не осядет земля, и я немного успокоилась.
Я огляделась. Кладбище всё-таки выглядело страшно. Через два участка от нас была насыпь из свежей земли, из неё торчал такой же свежий крест, а под крестом сидел огромный синий плюшевый медведь. Мне стало дурно. Неужели ребёнок? Я почему-то не думала раньше о том, что дети тоже умирают, и их, таких маленьких, тоже хоронят на кладбище, наверное, в маленьких гробиках.
Народу не то действительно поубавилось, не то просто на открытом пространстве люди стали казаться мельче. Лица определённо сменились: компании с толстяком во главе уже не было, зато я заметила несколько новых человек. И, кстати, цветы, которые все так старательно клали в гроб, из гроба аккуратно вынули ещё в церкви, и теперь весь этот гербарий снова разошелся по рукам. Похоже, цветы собирались водрузить на холм свежей земли, как того медведя.
К бабушке подошла высокая женщина, по возрасту – мамина ровесница. Она что-то сказала, и они обнялись, и, судя по подергиванию плечей, обе плакали. Наверное, какая-нибудь родственница. Может, бабВалина дочка, которая к двум должна была приехать, раньше освободилась.
Я рассматривала их издалека: у женщины были явно крашеные волосы какого-то очень красивого оттенка, я никак не могла понять, что они мне напоминают. Потом поняла – чёрную смородину. Такие тёмные, будто чёрные, и вместе с тем не то с лиловым, не то с красным отливом. Или черничное варенье.
Женщина отошла от бабушки и скромно заняла место в последних рядах. Почти тут же к ней подошла ещё одна, помоложе, лет тридцати пяти, наверное, они поздоровались и перекинулись парой слов.
Эту вторую я уже видела: она вылезала из ярко-синего «мини купера», когда мы подъезжали к кладбищу. На ней были очки и бардовый плащ, а каштановые с рыжиной волосы у неё торчали во все стороны. То ли химия, то ли свои такие кудряшки от природы. Про такие говорят – копна. В жизни редко встретишь реальную копну волос: обычно волосы у всех гладкие, жидкие. У мамы вот густые были. Маме повезло с волосами, а мне нет. Я, видимо, в папу пошла.
Эту женщину с копной нельзя было назвать толстой, но она вся была какая-то кругленькая: круглое лицо с щечками, грудь большая, фигура, с таким животом и боками, которую не скрывал даже плащ. И они очень смешно смотрелись вдвоём: одна высокая и худая, другая низкая и круглая.
Пришёл священник в чёрном. Он замахал кадилом над гробом, и что-то нараспев говорил. Все наклонили головы, и я тоже. Я хотела подойти к этим двоим, а потом подумала, что ещё успею. Тем более, что сейчас момент был явно не подходящий. Но, скосив глаз, я продолжала наблюдать. К ним присоединился ещё и мужчина с огромными, на пол головы, залысинами. На нём было очень приличное пальто горчичного цвета, а в руках – охапка белых роз.
Гроб уже осторожно опускали вниз. Опускали долго и напряженно, и я поняла, что он очень тяжелый. От этой мысли снова стало не по себе: что-то было в этом такое монументальное, такое «навсегда»… Был бы гроб с мамой лёгким, и опускался бы он тогда легко, и относиться к происходящему, наверное, можно было бы легче…
Когда гроб коснулся дна, четверо мужиков с испитыми лицами облегченно вздохнули, вытерли пот и стали закапывать могилу. Они так буднично схватились за лопаты, будто всё уже было окончено, и оставалась сущая ерунда – забросать яму землёй. А как же цветы? А крест? Мы продолжали стоять с бабушкой вдвоём, пока к нам не подошёл дядя Боря.
Выяснилось, что люди уже начали расходиться, и предстояло снова сортировать всех по машинам: кто на поминки, а кто нет. Я огляделась в поисках тех троих, но их уже не было.
Мы с бабушкой сели в машину к дяде Боре. Бабушка спереди, а сзади кроме меня бабВера и бабВаля.
Поминки были в бабушкиной квартире, это казалось мне правильным. Было совершенно невозможно пригласить такую толпу незнакомых людей к нам домой. В наш с мамой дом.
Когда мы вошли, и я увидела масштаб подготовки, мне снова стало стыдно и неловко: почему она не позвала меня? Да, конечно, ей помогали сестры, но они бы могли бы позвать и меня… Я бы могла хотя бы в магазин сходить – у неё на серванте стояло шесть литровых пакетов сока и два полутора литровых, как они их тащили, интересно?
Я бродила по квартире, словно тень. Иногда со мной заговаривали, качали головой, жалели и меня, и маму, но мне постоянно казалось, будто я присутствую тут только наполовину, что другая часть меня где-то не здесь. А где? Осталась на кладбище?
Сели за стол. Меня бомбило. Всё было противно: и люди, и разговоры, есть не хотелось совершенно, но уйти было нельзя.
– Боренька, ну как салат? – с заискивающей интонацией спросила бабВаля.
– Очень вкусный. Но я вам его не рекомендую.
– Почему же?
– А мне тогда меньше достанется.
Все рассмеялись. Как они могли смеяться, шутить? У меня ком в горле стоял, а эти смеялись, тянули рты в улыбках, чавкали, пережевывая, просили налить ещё.
– А ребёнку-то, ребёнку зачем наливаешь?!
– Какой она ребёнок?! Восемнадцать уже есть, замуж пора давно и детей рожать!
– Правда, ну что вы ей богу, она мать потеряла, от одной рюмки ничего ей не будет.
Я будто смотрела на всю сцену со стороны: вот сижу я, опустив плечи. Вот дядя Боря наливает мне в рюмку дешевого коньяка.