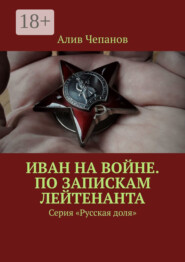По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Моя правда! Серия «Русская доля»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Моя правда! Серия «Русская доля»
Алексей Чепанов
Начало XX века. Сначала царская, потом Советская Россия. Судьба многочисленной крестьянской семьи в нескольких поколениях проходит на фоне важнейших исторических событий в России столетней давности, почти в точности повторяющихся в наши дни. Можно даже спрогнозировать дальнейший ход современной истории. В основе повествования лежат письма, рукописи и документы из закрытого семейного архива.
Моя правда!
Серия «Русская доля»
Алексей Чепанов
© Алексей Чепанов, 2021
ISBN 978-5-0053-5041-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Моя правда!
Введение
История нескольких поколений одной семьи простых крестьян на фоне важнейших исторических событий первой половины 20-го века. Ни одно крупное событие в истории страны не может пройти мимо гражданина этой страны, если конечно он не живет на необитаемом острове или не затерян в лесах, без какой-либо связи с внешним миром. При этом не имеет значение занимается он политикой или нет, вся наша жизнь просто пронизана политикой сверху до низу, независимо от нашего желания или нежелания и так было всегда. Автор ассоциирует себя с большей частью персонажей книги, с помощью них проходит сквозь важнейшие реальные исторические события и приближается к настоящим историческим личностям, давно ушедшим из мира сего. Через своих героев автор обращается к ним со своим «наболевшим». Сравнивая события ушедшего и нынешнего века, автор находит очень много общего между ними и пытается передать обществу своё мнение через героев давно минувшей эпохи. Кажется, что на сельских жителей, в отличие от городских, политика влияет в меньшей степени, но так только кажется. Рано или поздно, лучше конечно рано – лучше для него самого, любому гражданину приходится делать выбор с кем он, на чьей он стороне? Если он в своей жизни ограничивается пассивной позицией, то обязательно найдётся кто-то, кто за него примет решение и займёт его место в истории.
Задача произведения – достоверное изложение исторических событий, крестьянского быта и роли простого человека, зачастую далёкого от какой-либо активной общественно-политической жизни и истории своей страны. Далекие события прошлого века, порой кажутся похожими на современные и тогда становятся актуальными и в наше время. Оказывается, что существуют вечные проблемы, не зависимые от времени и не стираемые им. Сравнения тех далёких и наших сегодняшних проблем в обществе, показывает и доказывает, что многие вопросы стоявшие перед обществом 100 и более лет назад, до сих пор не решены или решены, но не правильно. Есть общественные интересы, а есть индивидуальные, иногда они пересекаются, а иногда расходятся. Есть правда лежащая на поверхности, которая преподносится со всех официальных источников, а есть скрытая, глубоко спрятанная, которую нужно искать, но скорее всего она и есть настоящая. Каждый сам должен разобраться где «правда» навязанная и выгодная лжецам, перевирающим историю на свой лад, а где засыпанная всякой чернухой и заплёванная предателями истинная настоящая правда. Любая власть в тот или иной период истории России, всегда заинтересована интерпретировать исторические события в свою пользу, тем самым формировать политически «правильное» общественное мнение. В разные времена истории одни и те же события отражаются в официальных средствах массовой информации по разному, зачастую совершенно противоположно. Цель автора «докопаться» до настоящей правды.
1. Давным-давно
На границе Тульской и Рязанской губернии по правому крутому берегу небольшой речки Мокрая Тобола, одного из притоков верховья Дона, вытянулась деревня Писаревка. На левом берегу реки была широкая заливная пойма, переходившая в пологий склон. На восточной и западной границе деревни река делала крутые повороты на юг.
На восточной окраине деревни, в месте крутого поворота реки, склон становился круче и казался более высоким, откуда открывался широкий перспективный вид долины реки. На вершине склона красовался двухэтажный дом-дворец с мезонином, принадлежащий местному помещику. Дом окружал обширный парк с искусственный бассейном в самом его центре. Круглый год в доме жила семья помещика. К дому, помимо большого парка с бассейном, примыкали огороды и пахотная земля. Дальше начиналась восточная окраина деревни. Она была заселена зависимыми от помещика крестьянами и имела довольно бедный внешний вид, по сравнению с примыкающей к ней средней частью деревни, именуемой местными жителями Селезнёвкой. Для крестьян Писаревки, жизнь в помещичьем доме-дворце представлялась просто райской, а его обитатели казались так прямо, какими-то, святыми небо-жителями.
На другой – западной окраине деревни находился дом другого помещика, он был менее привлекательным, казался немного запущенным, а принадлежащие помещику крестьяне западной части деревни выглядели намного беднее, чем селезнёвские и крестьяне восточной окраины.
Средняя часть деревни, именуемая Селезнёвкой, принадлежала еще одному помещику – графу, который сам никогда не жил в своём поместье, не имел тут дома и превратил принадлежащие ему земли в хозрасчетное предприятие по европейскому образцу. Земля была засажена яблонями зимних промысловых сортов. Принадлежащие помещику крестьяне были освобождены от крепостной зависимости еще раньше крестьянской реформы 1861-го года. Селезневские крестьяне были, в какой-то мере, независимыми, работали главным образом на себя, имели какой-никакой достаток и даже запас. Они и по общественному положению считались в деревне выше крестьян восточной и западной части. Крестьяне Селезневки и сами себя ставили выше подневольных помещичьих крестьян восточной и западной части. Такое положение сохранялось и позже, вплоть до революции 1917-го года. Таким образом, деревня была разделена административно на три почти равные по территории части.
Средняя часть – Селезневка, была вытянута вдоль правого крутого склона реки и состояла из двух слобод. Верхняя слобода, обращенная фасадами домов к реке, на юг, была основной и наиболее плотно заселенной. Огороды, как и было положено, располагались позади домов, а окна были обращены на деревню и на долину реки. Дома нижней слободы были обращены окнами на север. В средней, наиболее удобно расположенной части нижней слободы располагался дом семьи Животовых, в котором родился и провёл свое детство наш герой – Иван Андреевич Животов. Вид из окон дома намного бы выиграл, если бы его поставили фасадом на юг, к реке, с видом на обширный помещичий сад. Но этого дед Ивана Андреевича – Михаил Иванович Животов, ставивший дом, не мог себе позволить. Поставив дом к деревне задом, означало противопоставить себя всей деревенской общине. Это было недопустимо по неписанным законам деревенской общины.
Деревенская община существовала видимо всегда, наверное ещё при первобытно-общинном строе. Не зря она носит такое название до сих порт. Со временем отпала приставка: «первобытно-», а общинный так и остался и в названии и в жизни. Ещё во времена «Русской правды» община в деревне выполняла функции местной власти. Она отвечала за отдельных своих членов и за все преступления, совершенные вблизи месторасположения деревни. Вервь, как община называлась в древности, еще с тех давних времен, являлась органом местного крестьянского самоуправления. Круговая порука – ответственность всех членов общины за действия и выполнение обязанностей каждым из её членов, просуществовала официально до революции, существовала и после, но уже в несколько искажённом виде, в виде колхозов и совхозов. Существует она и в 21 веке, если не столько в жизни, то точно в умах сельских жителей, не смотря на планомерное уничтожение деревень, начавшееся с 90-х годов 20-го века. А что такое в наше время СНТ – Садовое некоммерческое товарищество? Та же община. Все традиции деревенской общины в наше время, подпитываются воспоминаниями людей старших поколений, обычаями и традициями дошедшими до нас и с молоком матери впитываются молодым поколением, сохранившихся ещё поселков, сёл и деревень, а также новых сельских образований: садоводческих и огороднических товариществ. Все, проживающие на территории деревни, де факто всегда считались членами деревенской общины. Главным неписанным законом – здесь являлась позиция самой авторитетной и активной части общины. Интересы рядового члена общины не могли идти в разрез с общинными, община этого ни когда не прощала, не прощает и теперь.
Вернемся, все же, к описанию дома. Дом семьи Животовых был сложен добротно, из красного самодельного кирпича с необычно толстыми стенами, хранящими много тепла в зимние морозы, с большими тремя окнами на север (на улицу) и совсем маленькими двумя окнами во двор для наблюдения за скотом. С улицы окна во двор выглядели бойницами. В плотную к дому был пристроен двор для скота, а к нему уже сарай для соломы и сена. Все было устроено продуманно, экономно и рационально. Ни чего, не пропадало в хозяйстве Животовых. Зерно ни когда полностью не вымолачивалось сознательно для дальнейшей постепенной подкормки скотины и домашней птицы. Не перемолоченная солома с колосьями в первую очередь шла на корм овцам, а затем в смеси с сеном и отрубями – корове. Перемятая и загаженная скотом солома тоже шла в дело – выносилась в навозную кучу, а оттуда вывозилась на удобрение. Всюду снующие по двору куры, внимательно следили за хозяйством и своевременно извлекали пропущенные зерна, взамен чего несли полноценные яйца.
Вход в дом был с западной стороны, на противоположной восточной стороне в доме, примыкая к правому углу стояла вместительная печь с печурками в сторону окон. На печке ночью спали дед с бабкой, а днем, в зимнее время, играли дети. Печь отапливалась со стороны двери и была отгорожена деревянной перегородкой, получался чулан.
В чулане была устроена кровать – самое привлекательное место в доме, конечно после печки. По противоположной стене, начиная от печки до окна, шел деревянный настил, проходящий над скамейкой, предназначенный для сна. Нижняя часть под скамейкой использовалась для хранения различных предметов, а в зимнее время для отогревания появившихся ягнят. Обеденный стол из толстых некрашеных досок стоял направо от двери, около него стояли широкие лавки, сделанные с расчётом, что бы на них можно было прилечь. В «красном» углу над столом висели нарядные подвенечные иконы.
В чулане всегда спали молодожены, сперва дед Ивана – Михаил с бабой Дусей, потом его сыновья со своими женами, до того, как обзаводились собственными домами и хозяйствами. Тут же спали отец Ивана – Андрей с мамой Ивана – Полиной, и только, после призыва отца на военную службу, это козырное место, облюбовал сам Ваня.
В памяти уже взрослого Ивана очень часто возникала эта давняя сладостная картинка из детства. Зимним вечером над столом висит керосиновая лампа и слабо освещает дом. Ваня, еще ребенок, лежит в чулане, укрывшись одеялом, и слушает интересные разговоры за перегородкой. Кто разговаривает, он не видит, да ему и не нужно их видеть. Он и так представляет их достаточно четко, одновременно со всем тем, о чём они говорят. Его мама то появится и поцелует его, то вновь исчезнет. Все чем-то заняты. Но Ваня уже согрелся, ему очень хорошо, он уже ничего не боится, родные рядом. Он просыпается рано утром. Мама куда-то торопиться, быстро уходит, на полу появляется солома, от которой распространяется холодный, но приятный дух. Бабушка снимает заслонку, чиркает спичками, зажигает жгут соломы и кладет его вначале на шесток, а после того как он разгорится, проталкивает жгут кочергой в печь. Страшная черная печь, в недрах которой всю ночь прятались рогатые черти, наполняется пламенем, как в аду, что наклеен на деревянной перегородке. После чего бабушка начинает быстро и ловко поворачиваться около печи. Она то кладет новые жгутики соломы, то ставит чугунок и рогачом пропихивает его в печь, то кочергой разгребает не прогоревшую солому. А пламя в печке, ярко освещая все закоулки, греет даже на расстоянии, и всё меняется: то вспыхивает, то затухает и чудится Ване, как черти, спрятавшиеся между чугунками, мечутся в аду. А бабушка кочергой разворачивает потемневший жгут соломы, вызывая вновь яркое пламя. Иногда бабушка поворачивается к внуку и увидев, что он не спит, ласково и любовно говорит:
– Чего глазенки то таращишь? Спал бы ещё.
И поцелует. Ване хорошо. Он хочет сказать или сделать для неё чего-нибудь хорошее, полезное, но не знает что, от этого просто лежит и молча таращит на бабушку глаза. Когда она печёт блины, обычно это бывает зимой, то первый блин она разламывает своими морщинистыми засаленными руками пополам, одну половину пробует сама, а другую вместе с потемневшим кусочком сахара, дает Ване:
– На, голубчик, попробуй.
Вот так за несколько лет, слушая бабушку и всё, что говорилось за перегородкой, дополняя полученную информацию своим воображением, Ваня получил полное представление об истории происхождения своей семьи. Иногда очень чётко, до мельчайших подробностей, человек на всю жизнь запоминает именно что-то далёкое из детства и юности, может быть даже не очень существенное, но такое тёплое, близкое и родное. Он вспоминает и думает про себя, что это наверное были самые счастливые и беззаботные моменты его жизни.
2. «Ветер странствий»
Начнем с того, что прадеда Вани звали тоже Иваном. У него было три сына, младшего из них звали Михаилом. Когда Михаил стал взрослым его однажды послали старшим в ночное на самое удаленное пастбище, на границе с Рязанской губернии. На это пастбище по ряду причин ехали неохотно, хотя там и была очень сочная трава. Считалось что там бывает жутко, беспокойно и очень скучно. Крутые склоны, глубокие, поросшие осокой омуты, отсутствие вблизи какого-либо жилья – такие факторы работали на создание дурной репутации этих мест. Михаил, когда бывал на этом пастбище в качестве младшего и сам часто ощущал его странные особенности, заключающиеся в каком-то необъяснимом страхе и беспокойстве, нападающем на него в этом месте. Однако теперь, будучи уже почти совсем взрослым, не возражал против направления его туда старшим. Михаил всегда стремился к чему-то необычному и неизведанному, и поэтому, это таинственное пастбище в некоторой степени всё же притягивало его, как человека по натуре любознательного.
Стояла прекраснейшая пора для этих мест. Лето удалось на редкость теплым. Вечера были тихими, теплыми и парными. Травы уродились густыми и душистыми. Кузнечики и сверчки старались переиграть друг друга, из-за чего все наполнялось их музыкальным звоном. Луна, казалось объявляла всему миру о красоте любви, о неизведанных краях, не рассказанных ещё сказках, о богатырях, красавицах, колдунах, колдуньях, о мучениках и счастливцах, – о всём том, что находилось где-то там далеко, далеко, за границей видимости.
Кони, утомленные дневной работой, жадно щипали, сочную от росы, траву. По мере наступления темноты ребята собирали помёт и высушенные прошлогодние травы и бросали их в огонь, чем поддерживали слабый костерок. Соседский парнишка – Сашка Грачёв уже не в первый раз рассказывал одни и те же сказки, постепенно изменяя их. Всё это для Михаила было привычным и уже порядком надоевшим. Хотелось нового и до сих пор еще неизведанного. Вспомнились песни, в которых воспеваются молодцы, путешествующие по всему миру в поисках плененной красавицей, как они бросались на врага, намного сильнее себя и освобождали свою красавицу из плена. Всегда молодец что-то придумывал, что-то предпринимал, совершал героические подвиги, чтобы найти свою красавицу. Богатырь в конце концов сражал всех злодеев, после чего обычно наступало всеобщее умиротворение и счастье. Михаил всё сидел в темноте вместе со всеми ребятами и слушал не в первый раз этого болтуна Сашку. «Что он, этот Сашка, еще нового выдумает про Кощея Бессмертного или Василису Прекрасную? Нет, он то уже не маленький, он старший, ему должны подчиняться все и потому он не намерен сидеть тут всю ночь зря. Ещё никогда не было ни одного происшествия на этом пастбище и нет смысла торчать около лошадей всю ночь. На ту сторону реки лошади не пойдут, а до посевов слишком крутой склон. Чтобы измученные лошади вздумали туда подняться, не бывало такого, к тому же и здесь хороший корм. Нет, пастбище совершенно спокойное, только скучновато здесь. Ничего, постараемся развеселиться», – решил про себя Михайло и громко окликнул ребят:
– Николка! Митяй! Вы где?!.
Отозвавшись ребята поднялись и подошли к лежавшему в стороне старшему – Михаилу. По неписанному закону деревенской общины, указания старших должны были выполняться беспрекословно. Николай и Митяй были уже взрослые парни, хотя и моложе Михаила, они находились в том критическом возрасте, когда их еще никто не называл парнями, но уже и не называли детьми.
– А что, слышь, – обратился Михаил к Николаю, – как-кузнечики-то играют. Говорят, что они так в темноте зазывают к себе подругу. А ты тоже уже не маленький чтобы сказки слушать. Пойдем в Черемушки, к девкам.
– Нет, это далеко, речку надо переходить, к тому же мы там ни кого не знаем. Может там и девчат то нету. – пытался было возразить Николай.
– А может там и девчат то нету? – передразнил Михаил Николая. Парни рассмеялись и с улыбкой произнесли уже хором:
– Как же можно без девчат то?!
– Так пойдем, посмотрим, что там за девчата, может они ночью без рубах ходят?
Так и сговорились. Ребята переправились через речку и вскоре были в Черемушках, где на площади перед часовней играли местные парни и девчата. Прибывшие были тщательно допрошены и с удовольствием приняты в игру. Девчат было больше чем ребят и потому трое чужих парней как раз пригодились для комплекта. Так решили парни, а девчата были согласны еще раньше. Как-то вдруг, не сговариваясь начали такие игры, в которых могли принимать участие все и при этом ни кто не мог закрепиться с кем-либо на весь вечер. За одну-две игры все участники должны были перезнакомиться друг с другом. Инициаторами таких игр являлись обычно девчата. Они носители традиций и обычаев, их больше парней беспокоила собственная судьба. Если появлялось желание и находчивость, то по всеобщему согласию, все игры можно было приспособить для двоих.
Во время игры в «третий лишний», к стоявшему Михаилу, выказывая неимоверную ловкость и изобретательность, ускользая от преследовавшего её парня, впритык приблизилась темноволосая смуглая девушка и как-то по-особому обожгла его огромными сказочными черными очами. Михаил сразу забыл скуку, ухватил девушку сзади за руки, выше локтя и слегка потянул назад. Она не пыталась отстраниться от незнакомого парня и свободно подалась туда, куда потянули её мощные руки. Не прошло и нескольких минут, как им уже казалось, что они знают друг друга давным-давно и давным-давно нравятся друг другу. Обоим казалось, что сейчас же, они были готовы пойти на все, чтобы больше ни когда не расставаться. Одновременно у обоих появилась уверенность, что их чувства взаимны. В последующих играх они старались так подгадать по игре, чтобы как можно чаще оказываться вместе.
Во время игры в «салочки» они удалялись дальше чем это было необходимо по условиям игры. В эти кратковременные минуты уединения, они успевали обменяться несколькими, но весьма значительными для них обоих, словами.
– Как тебя звать краса? – почти шёпотом спросил Михаил, приблизившись к уху девушки больше, чем это было необходимо. – Меня зовут Миша.
– А меня – Дуся, – ответила девушка тихо и немного смущенно.
– Как прозвище? Как можно тебя найти на деревне?
Она молчала. Тогда он добавил:
– Куда сватов присылать?
В это время играющие заметили, их не первую задержку и смеясь позвали в круг. Однако, тут же, уже в нарушение правил игры, они опять оказались в стороне.
– Ты согласна выйти за меня? – нежно произнес Михаил уже совсем шёпотом прямо в ухо девушки, одновременно целуя её тонкую шейку. – Я это, серьезно, скажи, Дусенька, любимая.
– Согласна. – еле слышно проговорила она так, что Михаил не расслышал бы её слов, если бы в это время не смотрел ей в глаза и не видел чуть заметное движение её губ.
Алексей Чепанов
Начало XX века. Сначала царская, потом Советская Россия. Судьба многочисленной крестьянской семьи в нескольких поколениях проходит на фоне важнейших исторических событий в России столетней давности, почти в точности повторяющихся в наши дни. Можно даже спрогнозировать дальнейший ход современной истории. В основе повествования лежат письма, рукописи и документы из закрытого семейного архива.
Моя правда!
Серия «Русская доля»
Алексей Чепанов
© Алексей Чепанов, 2021
ISBN 978-5-0053-5041-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Моя правда!
Введение
История нескольких поколений одной семьи простых крестьян на фоне важнейших исторических событий первой половины 20-го века. Ни одно крупное событие в истории страны не может пройти мимо гражданина этой страны, если конечно он не живет на необитаемом острове или не затерян в лесах, без какой-либо связи с внешним миром. При этом не имеет значение занимается он политикой или нет, вся наша жизнь просто пронизана политикой сверху до низу, независимо от нашего желания или нежелания и так было всегда. Автор ассоциирует себя с большей частью персонажей книги, с помощью них проходит сквозь важнейшие реальные исторические события и приближается к настоящим историческим личностям, давно ушедшим из мира сего. Через своих героев автор обращается к ним со своим «наболевшим». Сравнивая события ушедшего и нынешнего века, автор находит очень много общего между ними и пытается передать обществу своё мнение через героев давно минувшей эпохи. Кажется, что на сельских жителей, в отличие от городских, политика влияет в меньшей степени, но так только кажется. Рано или поздно, лучше конечно рано – лучше для него самого, любому гражданину приходится делать выбор с кем он, на чьей он стороне? Если он в своей жизни ограничивается пассивной позицией, то обязательно найдётся кто-то, кто за него примет решение и займёт его место в истории.
Задача произведения – достоверное изложение исторических событий, крестьянского быта и роли простого человека, зачастую далёкого от какой-либо активной общественно-политической жизни и истории своей страны. Далекие события прошлого века, порой кажутся похожими на современные и тогда становятся актуальными и в наше время. Оказывается, что существуют вечные проблемы, не зависимые от времени и не стираемые им. Сравнения тех далёких и наших сегодняшних проблем в обществе, показывает и доказывает, что многие вопросы стоявшие перед обществом 100 и более лет назад, до сих пор не решены или решены, но не правильно. Есть общественные интересы, а есть индивидуальные, иногда они пересекаются, а иногда расходятся. Есть правда лежащая на поверхности, которая преподносится со всех официальных источников, а есть скрытая, глубоко спрятанная, которую нужно искать, но скорее всего она и есть настоящая. Каждый сам должен разобраться где «правда» навязанная и выгодная лжецам, перевирающим историю на свой лад, а где засыпанная всякой чернухой и заплёванная предателями истинная настоящая правда. Любая власть в тот или иной период истории России, всегда заинтересована интерпретировать исторические события в свою пользу, тем самым формировать политически «правильное» общественное мнение. В разные времена истории одни и те же события отражаются в официальных средствах массовой информации по разному, зачастую совершенно противоположно. Цель автора «докопаться» до настоящей правды.
1. Давным-давно
На границе Тульской и Рязанской губернии по правому крутому берегу небольшой речки Мокрая Тобола, одного из притоков верховья Дона, вытянулась деревня Писаревка. На левом берегу реки была широкая заливная пойма, переходившая в пологий склон. На восточной и западной границе деревни река делала крутые повороты на юг.
На восточной окраине деревни, в месте крутого поворота реки, склон становился круче и казался более высоким, откуда открывался широкий перспективный вид долины реки. На вершине склона красовался двухэтажный дом-дворец с мезонином, принадлежащий местному помещику. Дом окружал обширный парк с искусственный бассейном в самом его центре. Круглый год в доме жила семья помещика. К дому, помимо большого парка с бассейном, примыкали огороды и пахотная земля. Дальше начиналась восточная окраина деревни. Она была заселена зависимыми от помещика крестьянами и имела довольно бедный внешний вид, по сравнению с примыкающей к ней средней частью деревни, именуемой местными жителями Селезнёвкой. Для крестьян Писаревки, жизнь в помещичьем доме-дворце представлялась просто райской, а его обитатели казались так прямо, какими-то, святыми небо-жителями.
На другой – западной окраине деревни находился дом другого помещика, он был менее привлекательным, казался немного запущенным, а принадлежащие помещику крестьяне западной части деревни выглядели намного беднее, чем селезнёвские и крестьяне восточной окраины.
Средняя часть деревни, именуемая Селезнёвкой, принадлежала еще одному помещику – графу, который сам никогда не жил в своём поместье, не имел тут дома и превратил принадлежащие ему земли в хозрасчетное предприятие по европейскому образцу. Земля была засажена яблонями зимних промысловых сортов. Принадлежащие помещику крестьяне были освобождены от крепостной зависимости еще раньше крестьянской реформы 1861-го года. Селезневские крестьяне были, в какой-то мере, независимыми, работали главным образом на себя, имели какой-никакой достаток и даже запас. Они и по общественному положению считались в деревне выше крестьян восточной и западной части. Крестьяне Селезневки и сами себя ставили выше подневольных помещичьих крестьян восточной и западной части. Такое положение сохранялось и позже, вплоть до революции 1917-го года. Таким образом, деревня была разделена административно на три почти равные по территории части.
Средняя часть – Селезневка, была вытянута вдоль правого крутого склона реки и состояла из двух слобод. Верхняя слобода, обращенная фасадами домов к реке, на юг, была основной и наиболее плотно заселенной. Огороды, как и было положено, располагались позади домов, а окна были обращены на деревню и на долину реки. Дома нижней слободы были обращены окнами на север. В средней, наиболее удобно расположенной части нижней слободы располагался дом семьи Животовых, в котором родился и провёл свое детство наш герой – Иван Андреевич Животов. Вид из окон дома намного бы выиграл, если бы его поставили фасадом на юг, к реке, с видом на обширный помещичий сад. Но этого дед Ивана Андреевича – Михаил Иванович Животов, ставивший дом, не мог себе позволить. Поставив дом к деревне задом, означало противопоставить себя всей деревенской общине. Это было недопустимо по неписанным законам деревенской общины.
Деревенская община существовала видимо всегда, наверное ещё при первобытно-общинном строе. Не зря она носит такое название до сих порт. Со временем отпала приставка: «первобытно-», а общинный так и остался и в названии и в жизни. Ещё во времена «Русской правды» община в деревне выполняла функции местной власти. Она отвечала за отдельных своих членов и за все преступления, совершенные вблизи месторасположения деревни. Вервь, как община называлась в древности, еще с тех давних времен, являлась органом местного крестьянского самоуправления. Круговая порука – ответственность всех членов общины за действия и выполнение обязанностей каждым из её членов, просуществовала официально до революции, существовала и после, но уже в несколько искажённом виде, в виде колхозов и совхозов. Существует она и в 21 веке, если не столько в жизни, то точно в умах сельских жителей, не смотря на планомерное уничтожение деревень, начавшееся с 90-х годов 20-го века. А что такое в наше время СНТ – Садовое некоммерческое товарищество? Та же община. Все традиции деревенской общины в наше время, подпитываются воспоминаниями людей старших поколений, обычаями и традициями дошедшими до нас и с молоком матери впитываются молодым поколением, сохранившихся ещё поселков, сёл и деревень, а также новых сельских образований: садоводческих и огороднических товариществ. Все, проживающие на территории деревни, де факто всегда считались членами деревенской общины. Главным неписанным законом – здесь являлась позиция самой авторитетной и активной части общины. Интересы рядового члена общины не могли идти в разрез с общинными, община этого ни когда не прощала, не прощает и теперь.
Вернемся, все же, к описанию дома. Дом семьи Животовых был сложен добротно, из красного самодельного кирпича с необычно толстыми стенами, хранящими много тепла в зимние морозы, с большими тремя окнами на север (на улицу) и совсем маленькими двумя окнами во двор для наблюдения за скотом. С улицы окна во двор выглядели бойницами. В плотную к дому был пристроен двор для скота, а к нему уже сарай для соломы и сена. Все было устроено продуманно, экономно и рационально. Ни чего, не пропадало в хозяйстве Животовых. Зерно ни когда полностью не вымолачивалось сознательно для дальнейшей постепенной подкормки скотины и домашней птицы. Не перемолоченная солома с колосьями в первую очередь шла на корм овцам, а затем в смеси с сеном и отрубями – корове. Перемятая и загаженная скотом солома тоже шла в дело – выносилась в навозную кучу, а оттуда вывозилась на удобрение. Всюду снующие по двору куры, внимательно следили за хозяйством и своевременно извлекали пропущенные зерна, взамен чего несли полноценные яйца.
Вход в дом был с западной стороны, на противоположной восточной стороне в доме, примыкая к правому углу стояла вместительная печь с печурками в сторону окон. На печке ночью спали дед с бабкой, а днем, в зимнее время, играли дети. Печь отапливалась со стороны двери и была отгорожена деревянной перегородкой, получался чулан.
В чулане была устроена кровать – самое привлекательное место в доме, конечно после печки. По противоположной стене, начиная от печки до окна, шел деревянный настил, проходящий над скамейкой, предназначенный для сна. Нижняя часть под скамейкой использовалась для хранения различных предметов, а в зимнее время для отогревания появившихся ягнят. Обеденный стол из толстых некрашеных досок стоял направо от двери, около него стояли широкие лавки, сделанные с расчётом, что бы на них можно было прилечь. В «красном» углу над столом висели нарядные подвенечные иконы.
В чулане всегда спали молодожены, сперва дед Ивана – Михаил с бабой Дусей, потом его сыновья со своими женами, до того, как обзаводились собственными домами и хозяйствами. Тут же спали отец Ивана – Андрей с мамой Ивана – Полиной, и только, после призыва отца на военную службу, это козырное место, облюбовал сам Ваня.
В памяти уже взрослого Ивана очень часто возникала эта давняя сладостная картинка из детства. Зимним вечером над столом висит керосиновая лампа и слабо освещает дом. Ваня, еще ребенок, лежит в чулане, укрывшись одеялом, и слушает интересные разговоры за перегородкой. Кто разговаривает, он не видит, да ему и не нужно их видеть. Он и так представляет их достаточно четко, одновременно со всем тем, о чём они говорят. Его мама то появится и поцелует его, то вновь исчезнет. Все чем-то заняты. Но Ваня уже согрелся, ему очень хорошо, он уже ничего не боится, родные рядом. Он просыпается рано утром. Мама куда-то торопиться, быстро уходит, на полу появляется солома, от которой распространяется холодный, но приятный дух. Бабушка снимает заслонку, чиркает спичками, зажигает жгут соломы и кладет его вначале на шесток, а после того как он разгорится, проталкивает жгут кочергой в печь. Страшная черная печь, в недрах которой всю ночь прятались рогатые черти, наполняется пламенем, как в аду, что наклеен на деревянной перегородке. После чего бабушка начинает быстро и ловко поворачиваться около печи. Она то кладет новые жгутики соломы, то ставит чугунок и рогачом пропихивает его в печь, то кочергой разгребает не прогоревшую солому. А пламя в печке, ярко освещая все закоулки, греет даже на расстоянии, и всё меняется: то вспыхивает, то затухает и чудится Ване, как черти, спрятавшиеся между чугунками, мечутся в аду. А бабушка кочергой разворачивает потемневший жгут соломы, вызывая вновь яркое пламя. Иногда бабушка поворачивается к внуку и увидев, что он не спит, ласково и любовно говорит:
– Чего глазенки то таращишь? Спал бы ещё.
И поцелует. Ване хорошо. Он хочет сказать или сделать для неё чего-нибудь хорошее, полезное, но не знает что, от этого просто лежит и молча таращит на бабушку глаза. Когда она печёт блины, обычно это бывает зимой, то первый блин она разламывает своими морщинистыми засаленными руками пополам, одну половину пробует сама, а другую вместе с потемневшим кусочком сахара, дает Ване:
– На, голубчик, попробуй.
Вот так за несколько лет, слушая бабушку и всё, что говорилось за перегородкой, дополняя полученную информацию своим воображением, Ваня получил полное представление об истории происхождения своей семьи. Иногда очень чётко, до мельчайших подробностей, человек на всю жизнь запоминает именно что-то далёкое из детства и юности, может быть даже не очень существенное, но такое тёплое, близкое и родное. Он вспоминает и думает про себя, что это наверное были самые счастливые и беззаботные моменты его жизни.
2. «Ветер странствий»
Начнем с того, что прадеда Вани звали тоже Иваном. У него было три сына, младшего из них звали Михаилом. Когда Михаил стал взрослым его однажды послали старшим в ночное на самое удаленное пастбище, на границе с Рязанской губернии. На это пастбище по ряду причин ехали неохотно, хотя там и была очень сочная трава. Считалось что там бывает жутко, беспокойно и очень скучно. Крутые склоны, глубокие, поросшие осокой омуты, отсутствие вблизи какого-либо жилья – такие факторы работали на создание дурной репутации этих мест. Михаил, когда бывал на этом пастбище в качестве младшего и сам часто ощущал его странные особенности, заключающиеся в каком-то необъяснимом страхе и беспокойстве, нападающем на него в этом месте. Однако теперь, будучи уже почти совсем взрослым, не возражал против направления его туда старшим. Михаил всегда стремился к чему-то необычному и неизведанному, и поэтому, это таинственное пастбище в некоторой степени всё же притягивало его, как человека по натуре любознательного.
Стояла прекраснейшая пора для этих мест. Лето удалось на редкость теплым. Вечера были тихими, теплыми и парными. Травы уродились густыми и душистыми. Кузнечики и сверчки старались переиграть друг друга, из-за чего все наполнялось их музыкальным звоном. Луна, казалось объявляла всему миру о красоте любви, о неизведанных краях, не рассказанных ещё сказках, о богатырях, красавицах, колдунах, колдуньях, о мучениках и счастливцах, – о всём том, что находилось где-то там далеко, далеко, за границей видимости.
Кони, утомленные дневной работой, жадно щипали, сочную от росы, траву. По мере наступления темноты ребята собирали помёт и высушенные прошлогодние травы и бросали их в огонь, чем поддерживали слабый костерок. Соседский парнишка – Сашка Грачёв уже не в первый раз рассказывал одни и те же сказки, постепенно изменяя их. Всё это для Михаила было привычным и уже порядком надоевшим. Хотелось нового и до сих пор еще неизведанного. Вспомнились песни, в которых воспеваются молодцы, путешествующие по всему миру в поисках плененной красавицей, как они бросались на врага, намного сильнее себя и освобождали свою красавицу из плена. Всегда молодец что-то придумывал, что-то предпринимал, совершал героические подвиги, чтобы найти свою красавицу. Богатырь в конце концов сражал всех злодеев, после чего обычно наступало всеобщее умиротворение и счастье. Михаил всё сидел в темноте вместе со всеми ребятами и слушал не в первый раз этого болтуна Сашку. «Что он, этот Сашка, еще нового выдумает про Кощея Бессмертного или Василису Прекрасную? Нет, он то уже не маленький, он старший, ему должны подчиняться все и потому он не намерен сидеть тут всю ночь зря. Ещё никогда не было ни одного происшествия на этом пастбище и нет смысла торчать около лошадей всю ночь. На ту сторону реки лошади не пойдут, а до посевов слишком крутой склон. Чтобы измученные лошади вздумали туда подняться, не бывало такого, к тому же и здесь хороший корм. Нет, пастбище совершенно спокойное, только скучновато здесь. Ничего, постараемся развеселиться», – решил про себя Михайло и громко окликнул ребят:
– Николка! Митяй! Вы где?!.
Отозвавшись ребята поднялись и подошли к лежавшему в стороне старшему – Михаилу. По неписанному закону деревенской общины, указания старших должны были выполняться беспрекословно. Николай и Митяй были уже взрослые парни, хотя и моложе Михаила, они находились в том критическом возрасте, когда их еще никто не называл парнями, но уже и не называли детьми.
– А что, слышь, – обратился Михаил к Николаю, – как-кузнечики-то играют. Говорят, что они так в темноте зазывают к себе подругу. А ты тоже уже не маленький чтобы сказки слушать. Пойдем в Черемушки, к девкам.
– Нет, это далеко, речку надо переходить, к тому же мы там ни кого не знаем. Может там и девчат то нету. – пытался было возразить Николай.
– А может там и девчат то нету? – передразнил Михаил Николая. Парни рассмеялись и с улыбкой произнесли уже хором:
– Как же можно без девчат то?!
– Так пойдем, посмотрим, что там за девчата, может они ночью без рубах ходят?
Так и сговорились. Ребята переправились через речку и вскоре были в Черемушках, где на площади перед часовней играли местные парни и девчата. Прибывшие были тщательно допрошены и с удовольствием приняты в игру. Девчат было больше чем ребят и потому трое чужих парней как раз пригодились для комплекта. Так решили парни, а девчата были согласны еще раньше. Как-то вдруг, не сговариваясь начали такие игры, в которых могли принимать участие все и при этом ни кто не мог закрепиться с кем-либо на весь вечер. За одну-две игры все участники должны были перезнакомиться друг с другом. Инициаторами таких игр являлись обычно девчата. Они носители традиций и обычаев, их больше парней беспокоила собственная судьба. Если появлялось желание и находчивость, то по всеобщему согласию, все игры можно было приспособить для двоих.
Во время игры в «третий лишний», к стоявшему Михаилу, выказывая неимоверную ловкость и изобретательность, ускользая от преследовавшего её парня, впритык приблизилась темноволосая смуглая девушка и как-то по-особому обожгла его огромными сказочными черными очами. Михаил сразу забыл скуку, ухватил девушку сзади за руки, выше локтя и слегка потянул назад. Она не пыталась отстраниться от незнакомого парня и свободно подалась туда, куда потянули её мощные руки. Не прошло и нескольких минут, как им уже казалось, что они знают друг друга давным-давно и давным-давно нравятся друг другу. Обоим казалось, что сейчас же, они были готовы пойти на все, чтобы больше ни когда не расставаться. Одновременно у обоих появилась уверенность, что их чувства взаимны. В последующих играх они старались так подгадать по игре, чтобы как можно чаще оказываться вместе.
Во время игры в «салочки» они удалялись дальше чем это было необходимо по условиям игры. В эти кратковременные минуты уединения, они успевали обменяться несколькими, но весьма значительными для них обоих, словами.
– Как тебя звать краса? – почти шёпотом спросил Михаил, приблизившись к уху девушки больше, чем это было необходимо. – Меня зовут Миша.
– А меня – Дуся, – ответила девушка тихо и немного смущенно.
– Как прозвище? Как можно тебя найти на деревне?
Она молчала. Тогда он добавил:
– Куда сватов присылать?
В это время играющие заметили, их не первую задержку и смеясь позвали в круг. Однако, тут же, уже в нарушение правил игры, они опять оказались в стороне.
– Ты согласна выйти за меня? – нежно произнес Михаил уже совсем шёпотом прямо в ухо девушки, одновременно целуя её тонкую шейку. – Я это, серьезно, скажи, Дусенька, любимая.
– Согласна. – еле слышно проговорила она так, что Михаил не расслышал бы её слов, если бы в это время не смотрел ей в глаза и не видел чуть заметное движение её губ.