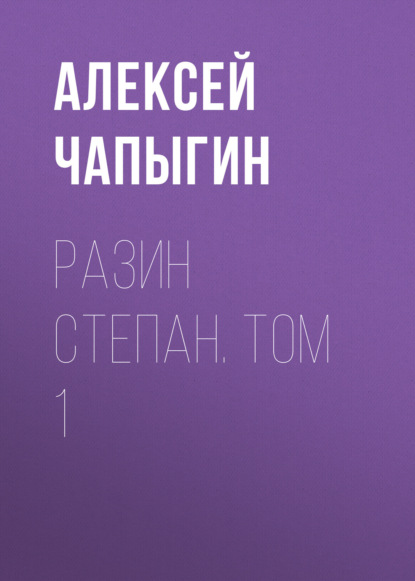По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Разин Степан. Том 1
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Недужится, боярин, чтой-то…
Ириньица глотнула квасу – отдала ковш.
– Поди спи, мы с жонкой ту рассудим, что почем на торгу.
Дьяк ушел.
– Ну-ка, жемчужина окатистая, сказывай, пошто пришла? Не упокойников же обмывать, поди, свой кто у нас, за ним?
Ириньица сорвалась с лавки, кинулась на колени:
– Низко и слезно бью тебе, боярин, челом за козака, что нонче в Разбойной взят… Степаном…
– А! – Боярин сел на бумажнике и скорее, чем можно было ждать, спустил ноги на пол. На мертвом лице увидала Ириньица, как зажглись волчьи глаза. – Разя? Степан?
– Он, боярин!
– Кто довел тебе, что он у нас, – дьяк?
– Народ, боярин, молыт, по слуху пришла к тебе…
– Ты с Разей в любви жила?
– Мало жила, боярин!
– Тако все? А ведомо тебе, жонка, что оный воровской козак и брат его стали противу Бога?
– То неведомо мне, боярин!
– Сядь и сказывай правду. Ведомо ли тебе, что Степан Разя был атаманом в солейном бунте?
Ириньица, склонив голову, помолчала, почувствовала, как лицо загорелось.
– Знаю теперь – ведомо!
– То прошло, боярин!
– Подвиньсь! – Боярин снова лег, протянул ноги и, глядя ей в лицо, заговорил: – Был сатана, жонка, и оный сатана спорил с Богом… А тако: сатану Бог сверзил с небеси в геенну и приковал чепью в огнь вечный. Кто противу государя-царя, помазанника Божия, тот против Бога. Рази, весь их корень воровской, пошли против великого государя, и за то ввергли их, как Бог сатану, в огнь… Ты же, прилепясь телом к сатане, мыслишь ли спастись? Да еще дерзновение поймала прийти молиться за сатану? То-то ласковая да масляная, как луковица на сковороде. Ну што ж! Ложись спать, а я ночью подумаю, что почем на торгу… Эй, Ефимко, дьяк!
На голос боярина вышел из другой половины светлицы русый дьяк.
– Сведи жонку в горенку, ту, что в перерубе! Завтра ей смотрины наладим… В бане была, да худо парилась…
– Мне бы к дому, боярин! А я ранехонько бы пришла.
– Хошь, чтоб по дороге лихие люди под мост сволокли да без головы оставили? Мы тебе голову оставим на месте… По ребенку нутро ноет? Ребенок от Рази?
– Да, боярин!
– Дьяк, уведи ее!
Дьяк сурово сказал:
– Пойдем-ка, баба!
Дьяк был в красном, шел впереди, широко шагая, держа свечу перед собой. Ириньица подумала: «Как палач!»
В узкой однооконной горнице стояла кровать, в углу образ – тонкая свеча горела у образа.
– Спи тут!
Дьяк поставил свечу на стол и, уходя, у двери оглянулся. Поблескивали на плечах концы русых волос. Глаз не видно. Сказал тихо:
– Пала на, глаза – уйдешь ли жива, не ведаю… Сказывал…
– О, голубь, все стерплю!
Дьяк ушел. Ириньица зачем-то схватила свечу, подошла к окну: окно узкое, слюдяное в каменной нише, на окне узорчатая решетка, окно закрыто снаружи ставнем. В изогнутой слюде отразилось ее лицо – широкое и безобразное, будто изуродованное.
– Ой беда! Лихо мое! Васенька, прости… А как тот, Степанушка, жив ли?.. Беда!
Потушила свечу, стала молиться и к утру заснула, на полу лежа.
12
Снилось Ириньице, кто-то поет песню… знакомую, старинную:
Ей немного спалось,
Много виделося…
Милый с горенки во горенку
Похаживает.
И тут же слышала – гремят железные засовы, с дверей будто кто снимает замки, царапает ключом, а по ее телу ползают черви. Ириньица их сталкивает руками, а руки липнут, черви не снимаются, ползут по телу, добираются до глаз. Проснулась – лежит на спине. Перед ней стоит со слюдяным фонарем в руках, в черной нараспашку однорядке боярин в высоком рыжем колпаке. Волчьи глаза глядят на нее:
– А ну, молодка, пойдем на смотрины…
Ириньица вскочила, поклонилась боярину, отряхнулась, пошла за ним. Шли переходами вдоль стенных коридоров, вышли во Фролову башню. В круглой сырой башне, в шубах, с бердышами, с факелами, ждали караульные стрельцы.
– Мост как?
– Спущен, боярин!
Киврин отдал фонарь со свечой стрельцам.
Пришли в пытошную. В башне на скамье у входной двери один дьяк в красном. Ириньица поклонилась дьяку. Дьяк встал при входе боярина и сел, когда боярин сел за стол. В пытошную пришли два караульных стрельца – встали под сводами при входе.
– Стрельцы, – сказал Киврин, – пустить в башню одного только заплечного Кирюху!
– Сполним, боярин.
Ириньица глотнула квасу – отдала ковш.
– Поди спи, мы с жонкой ту рассудим, что почем на торгу.
Дьяк ушел.
– Ну-ка, жемчужина окатистая, сказывай, пошто пришла? Не упокойников же обмывать, поди, свой кто у нас, за ним?
Ириньица сорвалась с лавки, кинулась на колени:
– Низко и слезно бью тебе, боярин, челом за козака, что нонче в Разбойной взят… Степаном…
– А! – Боярин сел на бумажнике и скорее, чем можно было ждать, спустил ноги на пол. На мертвом лице увидала Ириньица, как зажглись волчьи глаза. – Разя? Степан?
– Он, боярин!
– Кто довел тебе, что он у нас, – дьяк?
– Народ, боярин, молыт, по слуху пришла к тебе…
– Ты с Разей в любви жила?
– Мало жила, боярин!
– Тако все? А ведомо тебе, жонка, что оный воровской козак и брат его стали противу Бога?
– То неведомо мне, боярин!
– Сядь и сказывай правду. Ведомо ли тебе, что Степан Разя был атаманом в солейном бунте?
Ириньица, склонив голову, помолчала, почувствовала, как лицо загорелось.
– Знаю теперь – ведомо!
– То прошло, боярин!
– Подвиньсь! – Боярин снова лег, протянул ноги и, глядя ей в лицо, заговорил: – Был сатана, жонка, и оный сатана спорил с Богом… А тако: сатану Бог сверзил с небеси в геенну и приковал чепью в огнь вечный. Кто противу государя-царя, помазанника Божия, тот против Бога. Рази, весь их корень воровской, пошли против великого государя, и за то ввергли их, как Бог сатану, в огнь… Ты же, прилепясь телом к сатане, мыслишь ли спастись? Да еще дерзновение поймала прийти молиться за сатану? То-то ласковая да масляная, как луковица на сковороде. Ну што ж! Ложись спать, а я ночью подумаю, что почем на торгу… Эй, Ефимко, дьяк!
На голос боярина вышел из другой половины светлицы русый дьяк.
– Сведи жонку в горенку, ту, что в перерубе! Завтра ей смотрины наладим… В бане была, да худо парилась…
– Мне бы к дому, боярин! А я ранехонько бы пришла.
– Хошь, чтоб по дороге лихие люди под мост сволокли да без головы оставили? Мы тебе голову оставим на месте… По ребенку нутро ноет? Ребенок от Рази?
– Да, боярин!
– Дьяк, уведи ее!
Дьяк сурово сказал:
– Пойдем-ка, баба!
Дьяк был в красном, шел впереди, широко шагая, держа свечу перед собой. Ириньица подумала: «Как палач!»
В узкой однооконной горнице стояла кровать, в углу образ – тонкая свеча горела у образа.
– Спи тут!
Дьяк поставил свечу на стол и, уходя, у двери оглянулся. Поблескивали на плечах концы русых волос. Глаз не видно. Сказал тихо:
– Пала на, глаза – уйдешь ли жива, не ведаю… Сказывал…
– О, голубь, все стерплю!
Дьяк ушел. Ириньица зачем-то схватила свечу, подошла к окну: окно узкое, слюдяное в каменной нише, на окне узорчатая решетка, окно закрыто снаружи ставнем. В изогнутой слюде отразилось ее лицо – широкое и безобразное, будто изуродованное.
– Ой беда! Лихо мое! Васенька, прости… А как тот, Степанушка, жив ли?.. Беда!
Потушила свечу, стала молиться и к утру заснула, на полу лежа.
12
Снилось Ириньице, кто-то поет песню… знакомую, старинную:
Ей немного спалось,
Много виделося…
Милый с горенки во горенку
Похаживает.
И тут же слышала – гремят железные засовы, с дверей будто кто снимает замки, царапает ключом, а по ее телу ползают черви. Ириньица их сталкивает руками, а руки липнут, черви не снимаются, ползут по телу, добираются до глаз. Проснулась – лежит на спине. Перед ней стоит со слюдяным фонарем в руках, в черной нараспашку однорядке боярин в высоком рыжем колпаке. Волчьи глаза глядят на нее:
– А ну, молодка, пойдем на смотрины…
Ириньица вскочила, поклонилась боярину, отряхнулась, пошла за ним. Шли переходами вдоль стенных коридоров, вышли во Фролову башню. В круглой сырой башне, в шубах, с бердышами, с факелами, ждали караульные стрельцы.
– Мост как?
– Спущен, боярин!
Киврин отдал фонарь со свечой стрельцам.
Пришли в пытошную. В башне на скамье у входной двери один дьяк в красном. Ириньица поклонилась дьяку. Дьяк встал при входе боярина и сел, когда боярин сел за стол. В пытошную пришли два караульных стрельца – встали под сводами при входе.
– Стрельцы, – сказал Киврин, – пустить в башню одного только заплечного Кирюху!
– Сполним, боярин.