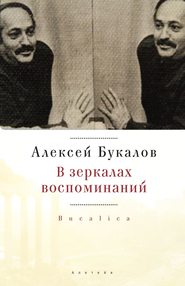По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Берег дальный». Из зарубежной Пушкинианы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конечно, образ Ибрагима, как мы убедились, значительно разнится от исторической фигуры пушкинского предка. Но все-таки в романе имелся в виду именно прадед нашего поэта, а не абстрактный «человек Востока». (Если бы это было не так, то и Д.И.Белкину следовало, очевидно, назвать свою статью «Пушкин в работе над образом африканца Ибрагима», без упоминания фамилии Ганнибал.)
Кстати, об употреблении имени арапа в романс. Точности ради заметим, что в отрывках, напечатанных самим Пушкиным в «Литературной газете», герой назывался Ганнибалом и обозначался буквой Г… (VIII, 533).
Да, Пушкин, исходя из своих творческих установок, сознательно выбрал для героя романа восточное имя Ибрагим. Может быть, он знал, что при дворе Петра I были и другие арапы, называвшиеся по имени Абрам[262 - В петровские времена был обычай давать привозимым арапам имя по преимуществу Авраам или Абрам. П.В.Анненков пишет: «Множество арапчиков было выписываемо и прежде и после Абрама Петровича из того же Константинополя. Многие из них и назывались Абрамами – именем, как будто уже присвоенным этим несчастным детям». (Анненков П. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху 1799–1826 гг. СПб.: 1874. С. 8.)]? Так или иначе, но имя Ибрагим не противопоставлено имени Абрам, а синонимично ему.
И еще один, последний комментарий по поводу царского арапа. Какому богу он молился? (и на каком языке?) Речь идет, конечно, не о литературном герое, а о его прототипе[263 - «Известно, какой сложный путь проходит творческая мысль писателя от прототипа к художественному образу» <…> Для Пушкина «важна совокупность ощущений окружающего мира, исторические и литературные ассоциации, художественные параллели. Фантазия поэта творчески «переплавляет» весь этот пестрый материал и организует его в оригинальный и целостный образ» (Вольперт Л.И. «Шекспиризм» Пушкина и Стендаля. С. 62).].
Имя и вероисповедание, как известно, тесно связаны между собой. Мы знаем по пушкинским «семейственным преданиям», а теперь и по архивным источникам, что арап попал в Россию из мусульманского Стамбула. Был крещен Петром I в Пятницкой православной церкви г. Вильно (ныне Вильнюс) в 1705 году (о чем и гласит соответствующая мемориальная доска). Имеется, впрочем, свидетельство о том, что это была «повторная» церемония: Абрам был сначала крещен по дороге из Турции в Россию в 1704 году в Молдавии[264 - См.: Телетова Н.К. Указ. соч. С. 124–126.]. Остается неясным, был ли маленький арап обращен в исламскую веру в серале султана или он был «магометанином» еще у себя на родине? На этот вопрос, увы, нет однозначного ответа.
Эритрея, как впоследствии стали называть красноморскую провинцию Эфиопии, всегда была «пограничной» в религиозном отношении областью. Ее правители Бахар-Негеши в конце XVII века находились между двух огней: из Гондара центральное правительство эфиопского негуса Иуади I направляло сюда, на север, христианских монахов и проповедников, а Оттоманская империя слала солдат. Порт Массауа (Массова) был турецким, мусульманским городом. Как исторически верно написал Тынянов: «Турки в XVII столетии все ближе и гуще надвигаются с моря на Абиссинию»[265 - Тынянов Ю.Н. Ганнибалы. В кн.: Юрий Тынянов. Писатель и ученый. М., 1966. С. 205.]. И сейчас, когда едешь по извилистым эритрейским дорогам, тут и там в довольно близком соседстве встречаешь минареты мечетей и кресты православных церквей.
В «немецкой» биографии А.П. Ганнибала прямо говорится, что «его отец был вассалом турецкого императора или Оттоманской империи; вследствие гнета и тягот он восстал в конце прошлого (XVII-го. – А.Б.) века с другими абиссинскими князьями, своими соотечественниками и союзниками, против султана, своего государя; этому последовали разные небольшие, но кровопролитные войны; однако ж, в конце концов победила сила, и этот Ганнибал, восьмилетний мальчик, младший сын владетельного князя, был с другими знатными юношами отправлен в Константинополь в качестве заложника… У его отца, по мусульманскому обычаю, было много, и даже чуть ли не тридцать, жен и соответственно этому множество детей…»[266 - Рукою Пушкина… С. 48–49.] и т. д.
Интересно, что в донесениях («отписках») русского посла в Стамбуле П.А. Толстого Петру I говорилось о вассальной зависимости «заморских» провинций Османской империи. К ним относились: Египет, Йемен, Хабеш (Эфиопия), Басра, Лахса (Бахрейн), Траблус Гарб (Ливия), Тунис и Алжир[267 - См.: Русский посол в Стамбуле… с. 53, 135.].
Португальский миссионер Лобу, побывавший в Абиссинии в начале XVII века, писал о местных христианах, что их вера «смешана с различными суевериями <…> столь многими заблуждениями и ересями, что можно сказать: аборигены здесь лишь по названию своему христиане; ведь сорная трава заглушила все добрые всходы и плоды»[268 - Цит. по кн.: Бохов К.-Х. К истокам Нила (пер. с нем.). М., 1988. С. 31.].
Н.П.Хохлов недоумевал: «Почему Петр крестил Ибрагима? Русский царь, надо полагать, знал, что Абиссиния – страна с христианской религией. Может быть, имелись основания считать, что царский приемыш – мусульманин или его обратили в магометанство во время пребывания в Турции? Возможно, отправлением каких-то религиозных ритуалов, молитвой арап выдал свою принадлежность к «чужой вере». Все это еще загадка»[269 - Хохлов Н.П. Указ. соч. С. 58.].
В этих рассуждениях немало наивного, но главный вопрос поставлен совершенно правильно: в отличие от арапов – выходцев из других районов Африки Ганнибал, как полагали его современники и потомки, «представлял» древнюю христианскую державу, к тому же православного толка.
«Эфиопия прострет руки свои к Богу», – это строка из Псалтыря (67 : 32). По мнению Виктора Листова, Пушкин должен был с особым вниманием относиться к христианским святыням эфиопов (абиссинцев), потому что «интерес поэта к точкам соприкосновения Священной истории с историей предков должен быть предопределен жизненным путем Пушкина, всем его творчеством. Например, – и это даже доказывать не надо – Пушкин не мог обойти вниманием и оставить вовсе без размышлений самое первое приобщение эфиопа к христианскому Благовествованию. Об этом приобщении подробно рассказано в главе 8 "Деяний Святых Апостолов" – там, где речь идет о подвигах апостола Филиппа»[270 - Листов В.С. Голос музы темной… М., Жираф. 2005. С. 229–230.].
Вот вкратце сюжет из «Деяний…»: Ангел Господень является апостолу и посылает его на юг, на пустынную дорогу из Иерусалима в Газу. По дороге той возвращается из Иерусалима в свое отечество Ефиоплянин, евнух эфиопской царицы Кандакии. В своей колеснице сей достойный муж читает Писание, как раз то место из пророка Исайи, где предсказаны мучения Того, кто пострадает за беззаконный род людской, за грехи наши (Ис., 53, 1–9). И спросил апостол Филипп Ефиоплянина: «Разумеешь ли, что читаешь?» Тогда евнух попросил апостола взойти на колесницу, сесть рядом и разъяснить ему непонятное место из пророчества: «Как овца веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так и Он не отверзал уст Своих; в уничижении Его суд Его совершился, но род Его кто изъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его» (Деян., 8, 32– 33). Апостол объяснил Ефиоплянину, что не о себе говорит здесь пророк, а об Иисусе Христе, Божественном Агнце, Которому предстояло пострадать и тем спасти род людской. И еще благовествовал Филипп, что сбылось то древнее пророчество недавно в Иерусалиме. Ефиоплянин уверовал, и, когда колесница подъехала к воде, принял святое крещение от апостола (Деян., 8, 35–39). Так началась история эфиопского христианства.
К особенностям исторических путей племен и народов Пушкин был необычайно чуток, подчеркивает Листов. И напоминает об интересе поэта к древним христианским культурам Армении и Грузии, а также о том, что в «Путешествии в Арзрум» Пушкин называет апостольскую проповедь самым сильным средством усмирения народов (VIII, 449). Как полагает ученый, те же самые мотивы неизбежно должны были возникать и при знакомстве Пушкина с историей эфиопского христианства. «Крещение Ефиоплянина по дороге в Газу имело ясную аналогию в истории предков поэта по материнской линии. По семейному преданию и из “немецкой биографии” Абрама Ганнибала, составленной А.Роткирхом, Пушкин знал о крещении своего африканского предка. <…> Путь семьи как бы повторял те пути, которыми шел народ; в карамзинско-пушкинском кругу это был обычный, естественный ход вещей». Листов уверен, что Пушкин должен был знать оба названия африканской страны: Абиссиния и Эфиопия. По-арабски слово «Абиссиния» восходит к значению «сброд», «бродяги», что вряд ли было известно поэту, весьма чувствительному к вопросам родовой чести. Пушкину скорее могло быть понятно название «Эфиопия» – по-гречески «страна людей с пылающими или обожженными лицами»[271 - Листов В.С. Цит. соч. С. 231–232.].
Анализ личной библиотеки Ганнибала (то, что мы знаем по «реэстрам» и описаниям – 347 названий) показывает, что в ней, помимо «Известий об Абиссинии и Эфиопии», беллетристики, сочинений по математике, военным наукам, философии и истории, имелся ряд книг религиозного содержания. В их числе – Библия, все двенадцать больших томов «Четьи-Минеи» (1768 год), а также… Коран!
Удалось обнаружить и такой раритет из библиотеки Абрама Петровича: «Книга Систима или Состояние мухаммеданской религии. Печатается повелением Его Величества Петра Великого Императора и Самодержца Всероссийского в типографии царствующего Санкт-Питербурха лета 1722 декабря в 22 день». (Книга иллюстрирована гравюрой художника Алексея Зубова и посвящена Петру I. Посвящение написано одним из «птенцов гнезда Петрова» поэтом Дмитрием Кантемиром. Имеется оттиск личной печати Ганнибала[272 - Гейченко С.С. У Лукоморья. Л.1977. С. 318–319, 324.].)
И еще одним вопросом справедливо задается Н.П. Хохлов (и мы вместе с ним): «На каком африканском языке говорил арап Петра Великого? И знал ли он его так, чтобы уже никогда не забыть? Возможно, первые слова его детства были на тигринья. Или на арабском? В этих местах он играл такую же роль, какую французский – в домах русских господ»[273 - Хохлов Н.П. Указ. соч. С. 67.].
Вспомним в этой связи, что неподалеку от земель Бахар-Негешей, в Северной Эфиопии во II–IX вв. н. э. существовало могучее Аксумское царство, распространившее тогда свою власть и влияние на соседние страны – Судан и Аравию. Именно здесь в IV веке произошло крещение Эфиопии. Обратимся к справке этнографа-африканиста: «Тигрейцы – жители провинции Тигре на севере страны, где находилось Аксумское царство. Они говорят на языке тигринья, который ближе геэзу – древнему языку Аксума, нежели амхарский, и считают себя во всех отношениях более прямыми наследниками Аксума, нежели амхара»[274 - Чернецов С.Б. Кто такие амхары? В сб.: Этническая история Африки. М.: Наука, 1977. С. 19.]. (Уточним, что амхара – самая крупная этническая группа в Эфиопии. А геэз распространен и сейчас в этой стране, но как язык православной церкви.) Таким образом, наследник Карфагена – вряд ли, но все-таки наследник Аксума?
Язык тигринья арап мог, конечно, знать в детстве и отдельные слова помнить до глубокой старости. Знал он, наверное, и немного по-турецки. А арабский – язык священного Корана – знать был просто обязан. Иначе подарок его старшего брата, приезжавшего (по преданию) за ним в Россию, был бы просто бессмыслен: «одарив младшего брата ценным оружием и арабскими рукописями, касающимися их происхождения, уехал он на родину…»[275 - Рукою Пушкина… С. 50.] Случайно ли Пушкин в июне 1836 года, занимаясь своей «Родословной», расположил на листе записи арабских букв[276 - См.: Азия и Африка сегодня. 1984. № 6.]?! Добавим, что дважды делал Пушкин записи на турецком языке – в Кишиневе в 1821 году и во время путешествия в Арзрум[277 - Литературное наследство. Т. 16–18. С. 274–275, 319–320.]…
А вообще, думается, А.П. Ганнибала можно было по праву назвать полиглотом! В самом деле, французским он владел в совершенстве, чему много свидетельств – документальных и, так сказать, «художественных». Утверждения о познаниях Ибрагима во французском разбросаны по двум первым главам «Арапа Петра Великого», там говорится об «образованности и природном уме» арапа, о его участии в культурной и интеллектуальной жизни Парижа. Позднее Пушкин в «Начале автобиографии» сообщает: «Он написал было свои записки на французском языке, но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их при себе сжечь вместе с другими драгоценными бумагами» (XII, 313). (На эту деталь из истории своего предка поэт не мог не обратить самого пристального внимания: сожжение бумаг – эпизод для Пушкина автобиографический.)
Поручая в 1724 году Конону Зотову (будущему контр-адмиралу) перевод двух книг с французского на русский, Петр I писал ему: «А буде вы из тех книг, которых не изволите знать терминов, то изволите согласиться с Абрамом Петровым»[278 - Вегнер М. Предки Пушкина. М., 1937. С. 34.].
Сравнительно недавно опубликовано письмо лютеранского пастора Г.Геннинга, близко знавшего арапа: «О приглашении из Германии по просьбе генерала Ганнибала толкового студента на должность учителя в семейство оного А.П.Ганнибала». В нем, в частности, говорилось: «У Е.П. господина генерал-майора Ганнибала, супруга которого принадлежит к моей общине и у меня исповедуется и причащается, открылась служба, для которой требуется порядочный студент, особо искусный во французском языке. Собственно этот господин является африканцем и урожденным негром, но обладает впрочем способностью к тем наукам, которые относятся к его форуму… Г-н Генерал был во Франции и, значит, является любителем французского языка, он также имеет хорошую библиотеку»[279 - Прянишников Е.А. Новый документ об Абраме Петровиче Ганнибале и его семье. В сб.: Из коллекций редких книг и рукописей научной библиотеки Московского университета. М.: МГУ, 1981. С. 72–80.] (Петербург, 1750 год). Кстати, состав этой библиотеки, о которой мы уже имели случай упоминать, также свидетельствует о познаниях Ганнибала во французском языке: там рядом с модными романами стояли тома Расина и Корнеля.
И если уж отталкиваться от состава библиотеки, добавим в наш список языков и голландский – Ганнибалу принадлежала Арифметика Бартьенса (Амстердам, 1708 год) на голландском языке, купленная, возможно, в Антверпене, где арап находился в свите Петра I в 1717 году.
Опубликованные письма и документы Ганнибала[280 - См.: Письма Абрама Ганнибала (Архивные документы). Издал Н. Гастфрейнд. СПб.: 1904; А. Ганнибал. Ганнибалы. В сб.: Пушкин и его современники. Вып. ХVII–ХVIII. СПб.: 1913; а также: Леец Г.А. Абрам Петрович Ганнибал. Таллинн. 1984; Телетова Н.К. Забытые родственные связи А.С.Пушкина. Л., 1981. С. 115–158, 170–171; Фейнберг И.Л. Абрам Петрович Ганнибал – прадед Пушкина. М., 1983. С. 103–107.], сам факт его участия (в качестве личного секретаря) в государственных делах Петра I служат доказательством хорошего знания русского языка. Показательно, что Пушкин почти не дает прямую речь Ибрагима в «Арапе Петра Великого»: только несколько реплик, остальное – в письме (французском!) и размышлениях. Правда, для речевой характеристики арапа Пушкин вкладывает в его уста русскую пословицу: «Не твоя печаль чужих детей качать». (При этом, когда ему нужно показать неправильную русскую речь шведа Густава Адамовича, он блестяще воспроизводит ее).
Не исключено, что Ганнибал знал и по-испански (он участвовал в войне на Пиренеях за «испанское наследство», был ранен и взят испанцами в плен)[281 - Исторические статьи М.Д. Хмырова. СПб.: 1873. С. 11.].
Учитывая, что Ганнибал свыше двадцати лет (1731–1752 гг.) прожил в Эстонии, можно с большой долей вероятности предположить его знание немецкого и, возможно, эстонского языков. В пользу первой версии говорит и тот факт, что знаменитая «Биография» Ганнибала была записана его зятем Адамом Роткирхом со слов тестя на немецком языке[282 - Телетова Н.К. Указ. соч. С. 116 (знание Ганнибалом эстонского языка предполагал и Н.Я. Эйдельман).].
Так что недаром Абрам Петрович состоял одно время «главным переводчиком иностранных книг» при царском дворе.
* * *
Мы ограничились лишь некоторыми соображениями – в основном биографического плана – по поводу образа главного героя пушкинского романа и судьбы его исторического прототипа. Значение арапа Ибрагима в литературной ткани романа значительно шире. Ибо арап особенно близок Пушкину – они ровесники («ему было 27 лет от роду», столько же, сколько было Пушкину во время работы над романом), именно глазами Ибрагима Пушкин показывает молодую Россию, преображаемую железной волею Петра[283 - Автобиографический характер образа арапа серьезными пушкиноведами уже не оспаривается. В одной из работ Л.Сидяков отметил: «Поскольку прототипом героя был легко узнаваемый предок Пушкина, во взаимоотношения Ибрагима с царем неизбежно привносился личный для автора смысл, связанный с его надеждами и иллюзиями первых последекабристских лет» (Сидяков Л.С. «Арап Петра Великого» и «Полтава». В сб.: Пушкин. Исследования и материалы. Л, 1986. Т. XII. С. 66). Ю. Оксман давно высказал обоснованное предположение, что Пушкин сознательно слил материалы о Ганнибале с данными о семейной драме другого своего прадеда – А. П. Пушкина (см.: Путеводитель по Пушкину. С. 40). Ср. ремарку самого Пушкина в «Начале автобиографии»: «В семейственной жизни прадед мой Ганнибал также был несчастлив, как и прадед мой Пушкин» (XII, 313). Интерес к жизни Ганнибала не раз воплощался в художественных образах и сюжетных деталях пушкинских произведений. Для примера вспомним один исторический анекдот, имеющий отношение к биографии арапа. А.О. Смирнова-Россет записала в своем дневнике в 1854 году, сославшись на переписку графа Д.И.Хвостова: «…Аннибал, дед Пушкина, решил судьбу Суворова. Отец его, генерал-аншеф, очень умный и просвещенный человек по тогдашнему времени, прочил его в штатскую службу, потому что он был слабого сложения. На что Суворов не соглашался и все читал военные книги. Аннибал однажды был подослан к нему, чтобы уговорить его войти в службу, нашел его лежащего на картах на полу и так углубленного, что он и не заметил вошедшего арапа. Наконец тот прервал его размышления, говорил с ним долго, вернулся к отцу его и сказал: «Оставь его, братец, пусть он делает как хочет: он будет умнее и тебя и меня» (Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 8). Можно предположить, что Пушкин знал этот анекдот из «семейственных преданий». И не он ли отразился в знаменитой сцене «Бориса Годунова»: мальчик-царевич и географическая карта?! (VII, 42)].
Как было отмечено, во время работы над романом Пушкин еще питает некоторые иллюзии относительно нового царствования. Отсюда и идеализация отношений между Петром и арапом. Еще заманчива для поэта миссия официального историографа, еще казалась возможной роль советчика и доверенного лица монарха.
Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями…
Эти строки тоже написаны в 1827 году.
«Строитель чудотворный»
Когда родное сталкивается в веках, всегда происходит мистическое. Так Пушкин столкнулся с Петром. Когда он заводит о Петре – сейчас звучит тайное.
Александр Блок. Записные книжки, 1901
И все-таки для Пушкина роман о царском арапе – это прежде всего роман о Петре I, о его времени. «Семейственные предания» попали на страницы исторических летописей. И здесь возникла исполинская фигура Петра – не медного, но живого[284 - См. Грашина Н.В. Личность Петра I в прозе и поэзии А.С.Пушкина. // Учитель – ученик: Проблемы, поиски, находки. М., 1995. С. 104–111.].
В двух эпизодах с Петром Пушкин употребляет в романе старомодно сейчас звучащий глагол «приближиться». В ямской избе «государь приближился» к Ибрагиму, в доме Ржевского дочь хозяина Наталья «приближилась довольно смело» к Петру. В романе о царском арапе Пушкин сам «приближился довольно смело» к великому царю, увидел его вблизи, «домашним образом», сохранив при этом ощущение исторической масштабности его личности.
Новаторскими для того времени были простота и естественность, которыми дышит вся сцена в ямской избе – первая с участием Петра:
«В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? – закричал он, вставая с лавки. – Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приближился, обнял его и поцеловал в голову» (VIII, 10).
Точный комментарий литературоведа: «Непривычной, даже невероятной, была сама ситуация: царь… в ямской избе… облокотись на стол… читает газеты! В исторических романах 1820-х годов монарх обычно изображался в обстановке, так или иначе характеризующей его как государя: на заседании совета, в момент торжественного выхода, во время приема послов, на тайном совещании с доверенным лицом, во главе войска и т. д. Вне привычного антуража, свидетельствующего о его сане, государь мог появляться только инкогнито, в чужом костюме, и в этих случаях читатель всегда догадывался о тайне, о том, что перед ним лицо, скрывающее свое истинное положение»[285 - Абрамович С.Л. К вопросу о становлении повествовательной прозы… Русская литература. 1974. № 12. С. 63. Обратим внимание на «зеленый кафтан» Петра. Эта деталь перекочевала в роман о царском арапе из исторического анекдота А.О.Корниловича. Там – «зеленый суконный кафтан». (Полярная звезда. СПб.: 1825. С. 161). Оттуда же и другое одеяние Петра в главе IV, где боярин Ржевский, провожая царя, «подал ему красный его тулуп» (VIII, 24). Красный тулуп мелькнет потом и у другого царя – крестьянского, Пугачева, в «Капитанской дочке».].
Русский классицизм возвел ореол божественности вокруг Петра. Уже в «Стансах» 1826 года Пушкин дал свою трактовку его образа:
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник (III, 40)
В романе о царском арапе эта линия была продолжена. Мы видим Петра глазами его молодого крестника: в сенате, «разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии, утверждающего морское величие России», «в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого» (VIII, 13). Петр-труженик, Петр-строитель – вот главное амплуа царя в романе. Пушкин откровенно любуется им. Петр в фокусе устремленных на него со всех сторон взглядов – сторонников и сподвижников из числа «нового дворянства», родовитых бояр – противников реформ, прибывшего из-за границы «петиметра». Петр деятелен и неутомим. Пушкин как будто вспоминает образ Петра, нарисованный еще Державиным в 1794 году:
Оставя скипетр, трон, чертог,
Быв странником, в пыли и в поте,
Великий Петр, как некий Бог,
Блистал величеством в работе:
Почтен и в рубище герой[286 - Державин Г.Р. Ода «Вельможа».]!
Почтен в рубище, почтен и в «полотняной фуфайке» на мачте нового корабля. На трактовке образа Петра не могла не сказаться и сверхзадача романа, его сопряженность с новым царствованием в России («урок царям»!). Вот почему в повествовании отсутствуют упоминания жестоких расправ Петра с противниками его режима. Смягчена таким образом и собственная оценка Пушкиным Петра, намеченная в Кишиневе в 1822 году в «Заметках по русской истории XVIII века», где Петр – «самовластный государь», вокруг которого «вся история представляет <…> всеобщее рабство», «все состояния, окованные без разбора, были равны перед его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалось». Вместе с тем из «Заметок» перенесены в роман некоторые характеристики Петра: «сильный человек», человек «необыкновенной души», который «искренно любил просвещение». На первом плане – отношение Петра к Ибрагиму: душевно щедрое, любовное, родственное. Царь справедлив, он лишен «расовых предрассудков» и ценит арапа за ум и знания. Петр с тревогой думает о будущей судьбе крестника: «Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобой будет, бедный мой арап?» (VIII, 27)[287 - «Умри я сегодня» – эта реплика Петра может подсказать возможный ход сюжета незавершенного романа (действие его происходит в последние годы жизни Петра).]. В обрисовке образа Петра сказалось детальное знакомство Пушкина с реалиями Петровской эпохи, с источниками, главные из которых он называет сам: «См. Голикова и «Русскую старину». При этом, как установили исследователи, особый интерес проявился у Пушкина не столько к произведениям самого Голикова, сколько к анекдотам о Петре, напечатанным в голиковском же «Дополнении к Деяниям Петра Великого». Термин «анекдот» в то время не означал вымышленный рассказ. Анекдотом называли сообщение о каком-либо любопытном, занимательном случае из частной жизни известного лица. Голиков считал свои анекдоты несомненными фактами, имеющими «историческую достоверность», ссылался на то, что они взяты или из журналов тех времен, или переданы лицами, «заслуживающими уважения», или «подтверждаются преданием, от самого того же времени из рода в роды переходящим» и не противоречащим «самой истории»[288 - Дополнение к Деяниям Петра Великого. Т. XVII, М., 1796. Предисловие. С. 2.]. Между прочим, среди информаторов Голикова не раз указан А.П. Ганнибал (Пушкин это для себя отметил – см. X, 4), а среди «пренумерантов» (подписчиков) голиковских «Деяний» наряду с Н.М.Карамзиным, отцом П.Пестеля, отцом Н.Языкова числится и сын «царского арапа» – генерал И.А.Ганнибал[289 - Указано В.С. Листовым. Ему же принадлежит и другое наблюдение в связи с источниками романа о царском арапе: в IX томе голиковских «Деяний…» приводится адресованное Вольтеру письмо принца Фридриха (будущего Фридриха Великого) об аудиенции у Петра прусского посланника («вручение креденций») в 1724 году. Петр принимает верительные грамоты на мачте корабля! Там же сказано, что царь передвигается по столице летом в одноколке, зимой – в санях.]. Вот она, связь времен!
Из другого источника – исторических очерков писателя-декабриста А.О.Корниловича – почти целиком почерпнута сцена петровской ассамблеи: «на столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся» (VIII, 16–17)[290 - Этот английский шкипер не случайно возник. Мы еще с ним встретимся по ходу рассказа. См. отзыв рецензента об этих очерках Корниловича: «Многие подробности об увеселениях двора и города, рассказанные быстро и живо, делают статью сию весьма занимательною» (Сомов О. Соревнователь просвещения и благотворения. 1824. Ч. XXV. № 1). Сопоставление очерков А.Корниловича с «Арапом Петра Великого» см. в работе Д.П.Якубовича (Пушкин. Исследования и материалы. Т. IX. Л., 1979. С. 276–277). Этот же автор отмечал: «Прежде чем быть прозаиком, Пушкин нередко считал себя обязанным быть ученым и кропотливым исследователем. Прежде чем быть историческим романистом, он длительно изучал архивы и библиотеки; прежде чем рисовать исторических героев, старался предпринять поездки в места, где они действовали; раньше чем заставлять своих героев говорить, изучал речь «простонародья» и живых свидетелей старины…» (сб.: Работа классиков над прозой. Л., 1929. С. 17).].
Кстати, об употреблении имени арапа в романс. Точности ради заметим, что в отрывках, напечатанных самим Пушкиным в «Литературной газете», герой назывался Ганнибалом и обозначался буквой Г… (VIII, 533).
Да, Пушкин, исходя из своих творческих установок, сознательно выбрал для героя романа восточное имя Ибрагим. Может быть, он знал, что при дворе Петра I были и другие арапы, называвшиеся по имени Абрам[262 - В петровские времена был обычай давать привозимым арапам имя по преимуществу Авраам или Абрам. П.В.Анненков пишет: «Множество арапчиков было выписываемо и прежде и после Абрама Петровича из того же Константинополя. Многие из них и назывались Абрамами – именем, как будто уже присвоенным этим несчастным детям». (Анненков П. Александр Сергеевич Пушкин в Александровскую эпоху 1799–1826 гг. СПб.: 1874. С. 8.)]? Так или иначе, но имя Ибрагим не противопоставлено имени Абрам, а синонимично ему.
И еще один, последний комментарий по поводу царского арапа. Какому богу он молился? (и на каком языке?) Речь идет, конечно, не о литературном герое, а о его прототипе[263 - «Известно, какой сложный путь проходит творческая мысль писателя от прототипа к художественному образу» <…> Для Пушкина «важна совокупность ощущений окружающего мира, исторические и литературные ассоциации, художественные параллели. Фантазия поэта творчески «переплавляет» весь этот пестрый материал и организует его в оригинальный и целостный образ» (Вольперт Л.И. «Шекспиризм» Пушкина и Стендаля. С. 62).].
Имя и вероисповедание, как известно, тесно связаны между собой. Мы знаем по пушкинским «семейственным преданиям», а теперь и по архивным источникам, что арап попал в Россию из мусульманского Стамбула. Был крещен Петром I в Пятницкой православной церкви г. Вильно (ныне Вильнюс) в 1705 году (о чем и гласит соответствующая мемориальная доска). Имеется, впрочем, свидетельство о том, что это была «повторная» церемония: Абрам был сначала крещен по дороге из Турции в Россию в 1704 году в Молдавии[264 - См.: Телетова Н.К. Указ. соч. С. 124–126.]. Остается неясным, был ли маленький арап обращен в исламскую веру в серале султана или он был «магометанином» еще у себя на родине? На этот вопрос, увы, нет однозначного ответа.
Эритрея, как впоследствии стали называть красноморскую провинцию Эфиопии, всегда была «пограничной» в религиозном отношении областью. Ее правители Бахар-Негеши в конце XVII века находились между двух огней: из Гондара центральное правительство эфиопского негуса Иуади I направляло сюда, на север, христианских монахов и проповедников, а Оттоманская империя слала солдат. Порт Массауа (Массова) был турецким, мусульманским городом. Как исторически верно написал Тынянов: «Турки в XVII столетии все ближе и гуще надвигаются с моря на Абиссинию»[265 - Тынянов Ю.Н. Ганнибалы. В кн.: Юрий Тынянов. Писатель и ученый. М., 1966. С. 205.]. И сейчас, когда едешь по извилистым эритрейским дорогам, тут и там в довольно близком соседстве встречаешь минареты мечетей и кресты православных церквей.
В «немецкой» биографии А.П. Ганнибала прямо говорится, что «его отец был вассалом турецкого императора или Оттоманской империи; вследствие гнета и тягот он восстал в конце прошлого (XVII-го. – А.Б.) века с другими абиссинскими князьями, своими соотечественниками и союзниками, против султана, своего государя; этому последовали разные небольшие, но кровопролитные войны; однако ж, в конце концов победила сила, и этот Ганнибал, восьмилетний мальчик, младший сын владетельного князя, был с другими знатными юношами отправлен в Константинополь в качестве заложника… У его отца, по мусульманскому обычаю, было много, и даже чуть ли не тридцать, жен и соответственно этому множество детей…»[266 - Рукою Пушкина… С. 48–49.] и т. д.
Интересно, что в донесениях («отписках») русского посла в Стамбуле П.А. Толстого Петру I говорилось о вассальной зависимости «заморских» провинций Османской империи. К ним относились: Египет, Йемен, Хабеш (Эфиопия), Басра, Лахса (Бахрейн), Траблус Гарб (Ливия), Тунис и Алжир[267 - См.: Русский посол в Стамбуле… с. 53, 135.].
Португальский миссионер Лобу, побывавший в Абиссинии в начале XVII века, писал о местных христианах, что их вера «смешана с различными суевериями <…> столь многими заблуждениями и ересями, что можно сказать: аборигены здесь лишь по названию своему христиане; ведь сорная трава заглушила все добрые всходы и плоды»[268 - Цит. по кн.: Бохов К.-Х. К истокам Нила (пер. с нем.). М., 1988. С. 31.].
Н.П.Хохлов недоумевал: «Почему Петр крестил Ибрагима? Русский царь, надо полагать, знал, что Абиссиния – страна с христианской религией. Может быть, имелись основания считать, что царский приемыш – мусульманин или его обратили в магометанство во время пребывания в Турции? Возможно, отправлением каких-то религиозных ритуалов, молитвой арап выдал свою принадлежность к «чужой вере». Все это еще загадка»[269 - Хохлов Н.П. Указ. соч. С. 58.].
В этих рассуждениях немало наивного, но главный вопрос поставлен совершенно правильно: в отличие от арапов – выходцев из других районов Африки Ганнибал, как полагали его современники и потомки, «представлял» древнюю христианскую державу, к тому же православного толка.
«Эфиопия прострет руки свои к Богу», – это строка из Псалтыря (67 : 32). По мнению Виктора Листова, Пушкин должен был с особым вниманием относиться к христианским святыням эфиопов (абиссинцев), потому что «интерес поэта к точкам соприкосновения Священной истории с историей предков должен быть предопределен жизненным путем Пушкина, всем его творчеством. Например, – и это даже доказывать не надо – Пушкин не мог обойти вниманием и оставить вовсе без размышлений самое первое приобщение эфиопа к христианскому Благовествованию. Об этом приобщении подробно рассказано в главе 8 "Деяний Святых Апостолов" – там, где речь идет о подвигах апостола Филиппа»[270 - Листов В.С. Голос музы темной… М., Жираф. 2005. С. 229–230.].
Вот вкратце сюжет из «Деяний…»: Ангел Господень является апостолу и посылает его на юг, на пустынную дорогу из Иерусалима в Газу. По дороге той возвращается из Иерусалима в свое отечество Ефиоплянин, евнух эфиопской царицы Кандакии. В своей колеснице сей достойный муж читает Писание, как раз то место из пророка Исайи, где предсказаны мучения Того, кто пострадает за беззаконный род людской, за грехи наши (Ис., 53, 1–9). И спросил апостол Филипп Ефиоплянина: «Разумеешь ли, что читаешь?» Тогда евнух попросил апостола взойти на колесницу, сесть рядом и разъяснить ему непонятное место из пророчества: «Как овца веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так и Он не отверзал уст Своих; в уничижении Его суд Его совершился, но род Его кто изъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его» (Деян., 8, 32– 33). Апостол объяснил Ефиоплянину, что не о себе говорит здесь пророк, а об Иисусе Христе, Божественном Агнце, Которому предстояло пострадать и тем спасти род людской. И еще благовествовал Филипп, что сбылось то древнее пророчество недавно в Иерусалиме. Ефиоплянин уверовал, и, когда колесница подъехала к воде, принял святое крещение от апостола (Деян., 8, 35–39). Так началась история эфиопского христианства.
К особенностям исторических путей племен и народов Пушкин был необычайно чуток, подчеркивает Листов. И напоминает об интересе поэта к древним христианским культурам Армении и Грузии, а также о том, что в «Путешествии в Арзрум» Пушкин называет апостольскую проповедь самым сильным средством усмирения народов (VIII, 449). Как полагает ученый, те же самые мотивы неизбежно должны были возникать и при знакомстве Пушкина с историей эфиопского христианства. «Крещение Ефиоплянина по дороге в Газу имело ясную аналогию в истории предков поэта по материнской линии. По семейному преданию и из “немецкой биографии” Абрама Ганнибала, составленной А.Роткирхом, Пушкин знал о крещении своего африканского предка. <…> Путь семьи как бы повторял те пути, которыми шел народ; в карамзинско-пушкинском кругу это был обычный, естественный ход вещей». Листов уверен, что Пушкин должен был знать оба названия африканской страны: Абиссиния и Эфиопия. По-арабски слово «Абиссиния» восходит к значению «сброд», «бродяги», что вряд ли было известно поэту, весьма чувствительному к вопросам родовой чести. Пушкину скорее могло быть понятно название «Эфиопия» – по-гречески «страна людей с пылающими или обожженными лицами»[271 - Листов В.С. Цит. соч. С. 231–232.].
Анализ личной библиотеки Ганнибала (то, что мы знаем по «реэстрам» и описаниям – 347 названий) показывает, что в ней, помимо «Известий об Абиссинии и Эфиопии», беллетристики, сочинений по математике, военным наукам, философии и истории, имелся ряд книг религиозного содержания. В их числе – Библия, все двенадцать больших томов «Четьи-Минеи» (1768 год), а также… Коран!
Удалось обнаружить и такой раритет из библиотеки Абрама Петровича: «Книга Систима или Состояние мухаммеданской религии. Печатается повелением Его Величества Петра Великого Императора и Самодержца Всероссийского в типографии царствующего Санкт-Питербурха лета 1722 декабря в 22 день». (Книга иллюстрирована гравюрой художника Алексея Зубова и посвящена Петру I. Посвящение написано одним из «птенцов гнезда Петрова» поэтом Дмитрием Кантемиром. Имеется оттиск личной печати Ганнибала[272 - Гейченко С.С. У Лукоморья. Л.1977. С. 318–319, 324.].)
И еще одним вопросом справедливо задается Н.П. Хохлов (и мы вместе с ним): «На каком африканском языке говорил арап Петра Великого? И знал ли он его так, чтобы уже никогда не забыть? Возможно, первые слова его детства были на тигринья. Или на арабском? В этих местах он играл такую же роль, какую французский – в домах русских господ»[273 - Хохлов Н.П. Указ. соч. С. 67.].
Вспомним в этой связи, что неподалеку от земель Бахар-Негешей, в Северной Эфиопии во II–IX вв. н. э. существовало могучее Аксумское царство, распространившее тогда свою власть и влияние на соседние страны – Судан и Аравию. Именно здесь в IV веке произошло крещение Эфиопии. Обратимся к справке этнографа-африканиста: «Тигрейцы – жители провинции Тигре на севере страны, где находилось Аксумское царство. Они говорят на языке тигринья, который ближе геэзу – древнему языку Аксума, нежели амхарский, и считают себя во всех отношениях более прямыми наследниками Аксума, нежели амхара»[274 - Чернецов С.Б. Кто такие амхары? В сб.: Этническая история Африки. М.: Наука, 1977. С. 19.]. (Уточним, что амхара – самая крупная этническая группа в Эфиопии. А геэз распространен и сейчас в этой стране, но как язык православной церкви.) Таким образом, наследник Карфагена – вряд ли, но все-таки наследник Аксума?
Язык тигринья арап мог, конечно, знать в детстве и отдельные слова помнить до глубокой старости. Знал он, наверное, и немного по-турецки. А арабский – язык священного Корана – знать был просто обязан. Иначе подарок его старшего брата, приезжавшего (по преданию) за ним в Россию, был бы просто бессмыслен: «одарив младшего брата ценным оружием и арабскими рукописями, касающимися их происхождения, уехал он на родину…»[275 - Рукою Пушкина… С. 50.] Случайно ли Пушкин в июне 1836 года, занимаясь своей «Родословной», расположил на листе записи арабских букв[276 - См.: Азия и Африка сегодня. 1984. № 6.]?! Добавим, что дважды делал Пушкин записи на турецком языке – в Кишиневе в 1821 году и во время путешествия в Арзрум[277 - Литературное наследство. Т. 16–18. С. 274–275, 319–320.]…
А вообще, думается, А.П. Ганнибала можно было по праву назвать полиглотом! В самом деле, французским он владел в совершенстве, чему много свидетельств – документальных и, так сказать, «художественных». Утверждения о познаниях Ибрагима во французском разбросаны по двум первым главам «Арапа Петра Великого», там говорится об «образованности и природном уме» арапа, о его участии в культурной и интеллектуальной жизни Парижа. Позднее Пушкин в «Начале автобиографии» сообщает: «Он написал было свои записки на французском языке, но в припадке панического страха, коему был подвержен, велел их при себе сжечь вместе с другими драгоценными бумагами» (XII, 313). (На эту деталь из истории своего предка поэт не мог не обратить самого пристального внимания: сожжение бумаг – эпизод для Пушкина автобиографический.)
Поручая в 1724 году Конону Зотову (будущему контр-адмиралу) перевод двух книг с французского на русский, Петр I писал ему: «А буде вы из тех книг, которых не изволите знать терминов, то изволите согласиться с Абрамом Петровым»[278 - Вегнер М. Предки Пушкина. М., 1937. С. 34.].
Сравнительно недавно опубликовано письмо лютеранского пастора Г.Геннинга, близко знавшего арапа: «О приглашении из Германии по просьбе генерала Ганнибала толкового студента на должность учителя в семейство оного А.П.Ганнибала». В нем, в частности, говорилось: «У Е.П. господина генерал-майора Ганнибала, супруга которого принадлежит к моей общине и у меня исповедуется и причащается, открылась служба, для которой требуется порядочный студент, особо искусный во французском языке. Собственно этот господин является африканцем и урожденным негром, но обладает впрочем способностью к тем наукам, которые относятся к его форуму… Г-н Генерал был во Франции и, значит, является любителем французского языка, он также имеет хорошую библиотеку»[279 - Прянишников Е.А. Новый документ об Абраме Петровиче Ганнибале и его семье. В сб.: Из коллекций редких книг и рукописей научной библиотеки Московского университета. М.: МГУ, 1981. С. 72–80.] (Петербург, 1750 год). Кстати, состав этой библиотеки, о которой мы уже имели случай упоминать, также свидетельствует о познаниях Ганнибала во французском языке: там рядом с модными романами стояли тома Расина и Корнеля.
И если уж отталкиваться от состава библиотеки, добавим в наш список языков и голландский – Ганнибалу принадлежала Арифметика Бартьенса (Амстердам, 1708 год) на голландском языке, купленная, возможно, в Антверпене, где арап находился в свите Петра I в 1717 году.
Опубликованные письма и документы Ганнибала[280 - См.: Письма Абрама Ганнибала (Архивные документы). Издал Н. Гастфрейнд. СПб.: 1904; А. Ганнибал. Ганнибалы. В сб.: Пушкин и его современники. Вып. ХVII–ХVIII. СПб.: 1913; а также: Леец Г.А. Абрам Петрович Ганнибал. Таллинн. 1984; Телетова Н.К. Забытые родственные связи А.С.Пушкина. Л., 1981. С. 115–158, 170–171; Фейнберг И.Л. Абрам Петрович Ганнибал – прадед Пушкина. М., 1983. С. 103–107.], сам факт его участия (в качестве личного секретаря) в государственных делах Петра I служат доказательством хорошего знания русского языка. Показательно, что Пушкин почти не дает прямую речь Ибрагима в «Арапе Петра Великого»: только несколько реплик, остальное – в письме (французском!) и размышлениях. Правда, для речевой характеристики арапа Пушкин вкладывает в его уста русскую пословицу: «Не твоя печаль чужих детей качать». (При этом, когда ему нужно показать неправильную русскую речь шведа Густава Адамовича, он блестяще воспроизводит ее).
Не исключено, что Ганнибал знал и по-испански (он участвовал в войне на Пиренеях за «испанское наследство», был ранен и взят испанцами в плен)[281 - Исторические статьи М.Д. Хмырова. СПб.: 1873. С. 11.].
Учитывая, что Ганнибал свыше двадцати лет (1731–1752 гг.) прожил в Эстонии, можно с большой долей вероятности предположить его знание немецкого и, возможно, эстонского языков. В пользу первой версии говорит и тот факт, что знаменитая «Биография» Ганнибала была записана его зятем Адамом Роткирхом со слов тестя на немецком языке[282 - Телетова Н.К. Указ. соч. С. 116 (знание Ганнибалом эстонского языка предполагал и Н.Я. Эйдельман).].
Так что недаром Абрам Петрович состоял одно время «главным переводчиком иностранных книг» при царском дворе.
* * *
Мы ограничились лишь некоторыми соображениями – в основном биографического плана – по поводу образа главного героя пушкинского романа и судьбы его исторического прототипа. Значение арапа Ибрагима в литературной ткани романа значительно шире. Ибо арап особенно близок Пушкину – они ровесники («ему было 27 лет от роду», столько же, сколько было Пушкину во время работы над романом), именно глазами Ибрагима Пушкин показывает молодую Россию, преображаемую железной волею Петра[283 - Автобиографический характер образа арапа серьезными пушкиноведами уже не оспаривается. В одной из работ Л.Сидяков отметил: «Поскольку прототипом героя был легко узнаваемый предок Пушкина, во взаимоотношения Ибрагима с царем неизбежно привносился личный для автора смысл, связанный с его надеждами и иллюзиями первых последекабристских лет» (Сидяков Л.С. «Арап Петра Великого» и «Полтава». В сб.: Пушкин. Исследования и материалы. Л, 1986. Т. XII. С. 66). Ю. Оксман давно высказал обоснованное предположение, что Пушкин сознательно слил материалы о Ганнибале с данными о семейной драме другого своего прадеда – А. П. Пушкина (см.: Путеводитель по Пушкину. С. 40). Ср. ремарку самого Пушкина в «Начале автобиографии»: «В семейственной жизни прадед мой Ганнибал также был несчастлив, как и прадед мой Пушкин» (XII, 313). Интерес к жизни Ганнибала не раз воплощался в художественных образах и сюжетных деталях пушкинских произведений. Для примера вспомним один исторический анекдот, имеющий отношение к биографии арапа. А.О. Смирнова-Россет записала в своем дневнике в 1854 году, сославшись на переписку графа Д.И.Хвостова: «…Аннибал, дед Пушкина, решил судьбу Суворова. Отец его, генерал-аншеф, очень умный и просвещенный человек по тогдашнему времени, прочил его в штатскую службу, потому что он был слабого сложения. На что Суворов не соглашался и все читал военные книги. Аннибал однажды был подослан к нему, чтобы уговорить его войти в службу, нашел его лежащего на картах на полу и так углубленного, что он и не заметил вошедшего арапа. Наконец тот прервал его размышления, говорил с ним долго, вернулся к отцу его и сказал: «Оставь его, братец, пусть он делает как хочет: он будет умнее и тебя и меня» (Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 8). Можно предположить, что Пушкин знал этот анекдот из «семейственных преданий». И не он ли отразился в знаменитой сцене «Бориса Годунова»: мальчик-царевич и географическая карта?! (VII, 42)].
Как было отмечено, во время работы над романом Пушкин еще питает некоторые иллюзии относительно нового царствования. Отсюда и идеализация отношений между Петром и арапом. Еще заманчива для поэта миссия официального историографа, еще казалась возможной роль советчика и доверенного лица монарха.
Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями…
Эти строки тоже написаны в 1827 году.
«Строитель чудотворный»
Когда родное сталкивается в веках, всегда происходит мистическое. Так Пушкин столкнулся с Петром. Когда он заводит о Петре – сейчас звучит тайное.
Александр Блок. Записные книжки, 1901
И все-таки для Пушкина роман о царском арапе – это прежде всего роман о Петре I, о его времени. «Семейственные предания» попали на страницы исторических летописей. И здесь возникла исполинская фигура Петра – не медного, но живого[284 - См. Грашина Н.В. Личность Петра I в прозе и поэзии А.С.Пушкина. // Учитель – ученик: Проблемы, поиски, находки. М., 1995. С. 104–111.].
В двух эпизодах с Петром Пушкин употребляет в романе старомодно сейчас звучащий глагол «приближиться». В ямской избе «государь приближился» к Ибрагиму, в доме Ржевского дочь хозяина Наталья «приближилась довольно смело» к Петру. В романе о царском арапе Пушкин сам «приближился довольно смело» к великому царю, увидел его вблизи, «домашним образом», сохранив при этом ощущение исторической масштабности его личности.
Новаторскими для того времени были простота и естественность, которыми дышит вся сцена в ямской избе – первая с участием Петра:
«В углу человек высокого росту, в зеленом кафтане с глиняною трубкою во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим? – закричал он, вставая с лавки. – Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приближился, обнял его и поцеловал в голову» (VIII, 10).
Точный комментарий литературоведа: «Непривычной, даже невероятной, была сама ситуация: царь… в ямской избе… облокотись на стол… читает газеты! В исторических романах 1820-х годов монарх обычно изображался в обстановке, так или иначе характеризующей его как государя: на заседании совета, в момент торжественного выхода, во время приема послов, на тайном совещании с доверенным лицом, во главе войска и т. д. Вне привычного антуража, свидетельствующего о его сане, государь мог появляться только инкогнито, в чужом костюме, и в этих случаях читатель всегда догадывался о тайне, о том, что перед ним лицо, скрывающее свое истинное положение»[285 - Абрамович С.Л. К вопросу о становлении повествовательной прозы… Русская литература. 1974. № 12. С. 63. Обратим внимание на «зеленый кафтан» Петра. Эта деталь перекочевала в роман о царском арапе из исторического анекдота А.О.Корниловича. Там – «зеленый суконный кафтан». (Полярная звезда. СПб.: 1825. С. 161). Оттуда же и другое одеяние Петра в главе IV, где боярин Ржевский, провожая царя, «подал ему красный его тулуп» (VIII, 24). Красный тулуп мелькнет потом и у другого царя – крестьянского, Пугачева, в «Капитанской дочке».].
Русский классицизм возвел ореол божественности вокруг Петра. Уже в «Стансах» 1826 года Пушкин дал свою трактовку его образа:
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник (III, 40)
В романе о царском арапе эта линия была продолжена. Мы видим Петра глазами его молодого крестника: в сенате, «разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии, утверждающего морское величие России», «в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочую ремесленника и кабинет ученого» (VIII, 13). Петр-труженик, Петр-строитель – вот главное амплуа царя в романе. Пушкин откровенно любуется им. Петр в фокусе устремленных на него со всех сторон взглядов – сторонников и сподвижников из числа «нового дворянства», родовитых бояр – противников реформ, прибывшего из-за границы «петиметра». Петр деятелен и неутомим. Пушкин как будто вспоминает образ Петра, нарисованный еще Державиным в 1794 году:
Оставя скипетр, трон, чертог,
Быв странником, в пыли и в поте,
Великий Петр, как некий Бог,
Блистал величеством в работе:
Почтен и в рубище герой[286 - Державин Г.Р. Ода «Вельможа».]!
Почтен в рубище, почтен и в «полотняной фуфайке» на мачте нового корабля. На трактовке образа Петра не могла не сказаться и сверхзадача романа, его сопряженность с новым царствованием в России («урок царям»!). Вот почему в повествовании отсутствуют упоминания жестоких расправ Петра с противниками его режима. Смягчена таким образом и собственная оценка Пушкиным Петра, намеченная в Кишиневе в 1822 году в «Заметках по русской истории XVIII века», где Петр – «самовластный государь», вокруг которого «вся история представляет <…> всеобщее рабство», «все состояния, окованные без разбора, были равны перед его дубинкою. Все дрожало, все безмолвно повиновалось». Вместе с тем из «Заметок» перенесены в роман некоторые характеристики Петра: «сильный человек», человек «необыкновенной души», который «искренно любил просвещение». На первом плане – отношение Петра к Ибрагиму: душевно щедрое, любовное, родственное. Царь справедлив, он лишен «расовых предрассудков» и ценит арапа за ум и знания. Петр с тревогой думает о будущей судьбе крестника: «Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобой будет, бедный мой арап?» (VIII, 27)[287 - «Умри я сегодня» – эта реплика Петра может подсказать возможный ход сюжета незавершенного романа (действие его происходит в последние годы жизни Петра).]. В обрисовке образа Петра сказалось детальное знакомство Пушкина с реалиями Петровской эпохи, с источниками, главные из которых он называет сам: «См. Голикова и «Русскую старину». При этом, как установили исследователи, особый интерес проявился у Пушкина не столько к произведениям самого Голикова, сколько к анекдотам о Петре, напечатанным в голиковском же «Дополнении к Деяниям Петра Великого». Термин «анекдот» в то время не означал вымышленный рассказ. Анекдотом называли сообщение о каком-либо любопытном, занимательном случае из частной жизни известного лица. Голиков считал свои анекдоты несомненными фактами, имеющими «историческую достоверность», ссылался на то, что они взяты или из журналов тех времен, или переданы лицами, «заслуживающими уважения», или «подтверждаются преданием, от самого того же времени из рода в роды переходящим» и не противоречащим «самой истории»[288 - Дополнение к Деяниям Петра Великого. Т. XVII, М., 1796. Предисловие. С. 2.]. Между прочим, среди информаторов Голикова не раз указан А.П. Ганнибал (Пушкин это для себя отметил – см. X, 4), а среди «пренумерантов» (подписчиков) голиковских «Деяний» наряду с Н.М.Карамзиным, отцом П.Пестеля, отцом Н.Языкова числится и сын «царского арапа» – генерал И.А.Ганнибал[289 - Указано В.С. Листовым. Ему же принадлежит и другое наблюдение в связи с источниками романа о царском арапе: в IX томе голиковских «Деяний…» приводится адресованное Вольтеру письмо принца Фридриха (будущего Фридриха Великого) об аудиенции у Петра прусского посланника («вручение креденций») в 1724 году. Петр принимает верительные грамоты на мачте корабля! Там же сказано, что царь передвигается по столице летом в одноколке, зимой – в санях.]. Вот она, связь времен!
Из другого источника – исторических очерков писателя-декабриста А.О.Корниловича – почти целиком почерпнута сцена петровской ассамблеи: «на столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их ни вертелся» (VIII, 16–17)[290 - Этот английский шкипер не случайно возник. Мы еще с ним встретимся по ходу рассказа. См. отзыв рецензента об этих очерках Корниловича: «Многие подробности об увеселениях двора и города, рассказанные быстро и живо, делают статью сию весьма занимательною» (Сомов О. Соревнователь просвещения и благотворения. 1824. Ч. XXV. № 1). Сопоставление очерков А.Корниловича с «Арапом Петра Великого» см. в работе Д.П.Якубовича (Пушкин. Исследования и материалы. Т. IX. Л., 1979. С. 276–277). Этот же автор отмечал: «Прежде чем быть прозаиком, Пушкин нередко считал себя обязанным быть ученым и кропотливым исследователем. Прежде чем быть историческим романистом, он длительно изучал архивы и библиотеки; прежде чем рисовать исторических героев, старался предпринять поездки в места, где они действовали; раньше чем заставлять своих героев говорить, изучал речь «простонародья» и живых свидетелей старины…» (сб.: Работа классиков над прозой. Л., 1929. С. 17).].