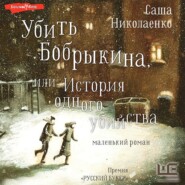По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравьиный бог: реквием
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Бум!
– Уймись! – Она ударила той стороной стены в ответ, дед замахнулся, стукнул тоже.
– Петруша! чёрть пропащий, де ты там?
– Да здесь я, ба, сейчас…
И, обойдя полог с опаской, чтобы не досталось тоже с кулака, как в жизнь не раз уже бывало, прикрыв две скрюченных ступни зелёным пледом, задвинул занавеску, солнце, летний сад, горячий полдень, птиц чирик, тропинку до калитки, канал, курган, дорогу к станции, «Союзпечать», с мороженым палатку, вагончик «Квас», одиннадцатый их до станции автобус, рынок и триста сорок пятый до Москвы.
– Всё, дед? Так хорошо тебе?
Данило Алексеич проследил Петрушины шаги к двери, облизывая пылью спёкшиеся губы, впуская воздух свистом в голый рот.
Петруша обернулся:
– Де, пить хочешь?
– Неть.
– А писить?
– Неть, бы баба.
– Не намочился ты? сухой?
Дед отвернулся к чёрному окну.
– А ничего не хочешь?.. Де?..
– Да ладно, бъять.
Петруша дверь закрыл, но взгляд прошёл за ним, подул, перебежал мурашками под майкой.
– Ну? Што он там?
– Да солнце лезло, ба.
– Задвинул?
– Да.
И заскакал с крыльца, меняя ноги, пропрыгал на одной скамейку и её, допрыгал до беседки: прыг-раз! прыг-два! прыг-три!..
– Попрыгай мне, бесок, земля-то вон рассту?пить.
Прыг-раз! Прыг-два! Прыг-три-четыре-пять!
– Дом рухнеть… хватить, говорю…
Вошёл в беседку, замер над коробкой, округлив глаза…
– Ба… Баб?
– Чаво?
– А Васька где…
– Чаво?
– Мой Васька… баб?
– А бабе знать?
– Ты не брала?
– А бабе дел?
– А где же он…
– Де сдал, архангелы не брали…
Тяжело спрыгнув, брякнул на пол с поленницы кот Добжанский, сморгнул, слизнул с губы листочком языка весёлый птичий пух, зевнул, раскрыв и щёлкнув пасть, прошёл, искря дегтярной шерстью в солнечном свету, и сел под лавочкой у ног её, заумывался.
– А вон он де, Петруш… Да, Васька? Васька в Ваське…
Петруша медленно пошёл к коту:
– Кись-кысь… хороший котик… хочешь молочка?
Кот замер, лапу вверх уставив, следил за ним, не веря в молоко.
Петруша бросился, кот подскочил и, развернувшись в воздухе, огромной чёрной птицей садом полетел.
Она расхохоталась вслед коту, сквозь всхлипы повторяя:
– Кись-кысь… хороший котик… киса-кыса… Хочешь после кровки молочка-т?
Он сел на уголок завалинки бетонный.
– На камне не сиди, застудишь жопь, осподь детей ня дасть. Ой, не могу… кись-кысь! Чийбись-то де? Ба, де? – отмахивая слезы смеха, проскрипела: – Чий хохотун-т напал? Ой, радось не к добру… Вставай, сказала, ну!
6
В пустом гробу похоронили Ваську. Коробку «Сахар» в «Правду» обернули, красиво лентой обвязали и пошли.
Горело солнце. Было жарко. Пахло липой. На небе ватные пылились облачка, и чайки рыбок уносили в синеву, сомкнув плотней железные крючки.
И смерть была внутри коробки и снаружи, невидимая смерть как будто просочилась сквозь, в платок впиталась каплями с пипетки, пахла Васькой, обманула, хранила солнечным теплом песчинки сахара на дне, как будто всё могла, имела право убивать. Но убивала жизнь, не смерть.
– Уймись! – Она ударила той стороной стены в ответ, дед замахнулся, стукнул тоже.
– Петруша! чёрть пропащий, де ты там?
– Да здесь я, ба, сейчас…
И, обойдя полог с опаской, чтобы не досталось тоже с кулака, как в жизнь не раз уже бывало, прикрыв две скрюченных ступни зелёным пледом, задвинул занавеску, солнце, летний сад, горячий полдень, птиц чирик, тропинку до калитки, канал, курган, дорогу к станции, «Союзпечать», с мороженым палатку, вагончик «Квас», одиннадцатый их до станции автобус, рынок и триста сорок пятый до Москвы.
– Всё, дед? Так хорошо тебе?
Данило Алексеич проследил Петрушины шаги к двери, облизывая пылью спёкшиеся губы, впуская воздух свистом в голый рот.
Петруша обернулся:
– Де, пить хочешь?
– Неть.
– А писить?
– Неть, бы баба.
– Не намочился ты? сухой?
Дед отвернулся к чёрному окну.
– А ничего не хочешь?.. Де?..
– Да ладно, бъять.
Петруша дверь закрыл, но взгляд прошёл за ним, подул, перебежал мурашками под майкой.
– Ну? Што он там?
– Да солнце лезло, ба.
– Задвинул?
– Да.
И заскакал с крыльца, меняя ноги, пропрыгал на одной скамейку и её, допрыгал до беседки: прыг-раз! прыг-два! прыг-три!..
– Попрыгай мне, бесок, земля-то вон рассту?пить.
Прыг-раз! Прыг-два! Прыг-три-четыре-пять!
– Дом рухнеть… хватить, говорю…
Вошёл в беседку, замер над коробкой, округлив глаза…
– Ба… Баб?
– Чаво?
– А Васька где…
– Чаво?
– Мой Васька… баб?
– А бабе знать?
– Ты не брала?
– А бабе дел?
– А где же он…
– Де сдал, архангелы не брали…
Тяжело спрыгнув, брякнул на пол с поленницы кот Добжанский, сморгнул, слизнул с губы листочком языка весёлый птичий пух, зевнул, раскрыв и щёлкнув пасть, прошёл, искря дегтярной шерстью в солнечном свету, и сел под лавочкой у ног её, заумывался.
– А вон он де, Петруш… Да, Васька? Васька в Ваське…
Петруша медленно пошёл к коту:
– Кись-кысь… хороший котик… хочешь молочка?
Кот замер, лапу вверх уставив, следил за ним, не веря в молоко.
Петруша бросился, кот подскочил и, развернувшись в воздухе, огромной чёрной птицей садом полетел.
Она расхохоталась вслед коту, сквозь всхлипы повторяя:
– Кись-кысь… хороший котик… киса-кыса… Хочешь после кровки молочка-т?
Он сел на уголок завалинки бетонный.
– На камне не сиди, застудишь жопь, осподь детей ня дасть. Ой, не могу… кись-кысь! Чийбись-то де? Ба, де? – отмахивая слезы смеха, проскрипела: – Чий хохотун-т напал? Ой, радось не к добру… Вставай, сказала, ну!
6
В пустом гробу похоронили Ваську. Коробку «Сахар» в «Правду» обернули, красиво лентой обвязали и пошли.
Горело солнце. Было жарко. Пахло липой. На небе ватные пылились облачка, и чайки рыбок уносили в синеву, сомкнув плотней железные крючки.
И смерть была внутри коробки и снаружи, невидимая смерть как будто просочилась сквозь, в платок впиталась каплями с пипетки, пахла Васькой, обманула, хранила солнечным теплом песчинки сахара на дне, как будто всё могла, имела право убивать. Но убивала жизнь, не смерть.