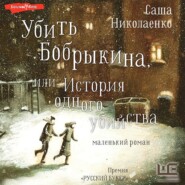По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравьиный бог: реквием
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не надо!
– Подуеть бабушка, заразу сдуеть, а то зараза попадёть – и будить баба светы хоронить, давай, нягожа, оберну, замёрз? – И завернёт его в большое полотенце.
Уже не холодно, мурашки разбежались под пижамой. Он почитает «Ёлки на горе», или «Мюнхгаузена» книжку, или какую Сашка почитать дала.
Белеет горб её перин высоких, лампадки скачет над Помпеей огонёк, под тусклым пятачком настольной лампы она листает книги чёрной тусклые стихи на пожелтевших листьях.
– Царю нябесны божи правый, истины твоя над сякое созданье, прости сей день дяло?м и словом, помышленьем, не прогневись и ниже помяни. Ты бо еси бох наш во сём, рука твоя о нас без всякого ответа недоумаваши уповахом, се яко царствие твоё, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас. Аминь… Перекрестись. Перекрястился?
– Да.
– Не видить бабушка, ну, де? Хляжу.
– Чего, ещё?
– Исть лишний грех, а кресть на мир не ляжеть лишний, перекрестись, сказала, ну! кресть чёрта отгоня?т.
– Нет чёрта, ба.
– Да вон сядить.
И чёрт сидит в углу, под тумбочкой, где шевеля?тся тряпки.
– Всё, спатьки, Петя, я гашу.
Во всем дому она на ночь погасит свет, ещё разок из горницы уйдёт, себя перепроверить, «не дай осподь закоротить», подёргает все вилки из розеток, посмотрит, крепко ли замки, щеколды на двери. С её шагов тяжёлых легче на душе, уютней тикают часы, надёжней тоненькие стены, задвинет занавеску – как спасёт. Проверит у входной между галошами колун на гнутой ручке, от воров, когда из Долгопрудного канал переплывут, пойдут участки грабить-убивать – оборонять, и успокоит:
– До нас-то, Петя, не дойдуть, дасть бох.
– Чего, ба, не дойдут?
– Широ?ко здесь канал переплывать, началом линии пойдуть, до нас собаки слають…
– Ты услышишь?
– Чаво же не ушлышу-то…
И подорожником заткнет в ушах от старика, во рту от гнили – и храпит.
Собаки перекличкой в темноте с начала линии всё ближе воют, и сердце думает: идут…
– Ба! Ба!
– Чаво ты…
– Ба… Идут!..
И с подорожника шипит:
– Да шпи, ополоумный, первый чась…
– Ба… да идут!
– Не те. Ш покойников они, ш воров-то лають, шпи, во шне, быват, и шмерть прошпишь… то мало осподу приштало-то во шне? Который угорить, какой живьём сгорить, какого котик серой убаюкать.
– Какой, баб, котик… Ба!
– Чаво?..
– Какой, ба, кот ещё?..
– А то шквось штены ходить коть, какой жамок ни жапирай. На хрудь приляжить, старь, молодь – приляжить, швярнётся, замурчить и в камянь обернётся. Тяжёлый камень, не вздохнуть. Удо?хнешься, под утро баба хвать, а уж холоденькой ляжишь, прибрал осподь бессмертну душу.
Собаки лают, воют, дверь скрипит, из Долгопрудного бандиты линией идут, как поросей, хозяев вяжут, режут, она храпит, проснётся и бубнит за стеночкой покойник; заснёшь – и смерть проспишь, проснёшься мёртвым. Бессмертну душу в рай, жарок червям, а косточки земле.
– Петруш, жавой?
– Живой.
– Жавой, тохда вставай.
8
Добжанский кот гулял с тех пор участком в полной власти, пока их в доме нет, нахально на веранду заходил, с кастрюль сбивая крышки, громыхал, тянул курятину с бульона, с безделья жаб и бабочек давил, завалинкой укладывал придушенных кротов и мышек тюльки, под пугалом сидел, синичек караулил, гад такой.
Петруша шланг опять тянул, травой разматывая кольца, и, отвинтив рычаг, окатывал кота и пугало водой.
– Ты чё ж творишь, бисова сила?
– Я, ба, кота…
– Да де кота? Кота няма, а баба вся в мокре?.
– А я, ба, видел, что ты там?
– Проклятый идоль. Хлаза из жопь и руки из овна.
Кота поймала на своём участке Сашка, на полосе нейтральной с рук на руки отдала, судить.
Судить затиснули в корзину, едва с шипящей мордой и когтями упихав, закрыли с бочки кругом, поясом на бантик, сверху кирпичом, к сараям унесли. В тени сиреневых кустов под верстаком за воровство, убийства и разбой, особенно за Ваську, голосованием два на одного приговорили к смерти, чрез повесить или утопить. Пока судили, кот орал как режут, выл и дрался сам с собой, спиной под бантиком приподнимая крышку и кирпич. Так жить хотел – через плетёнку лезла дыбом шерсть. Они, убийцы, только одного боятся – когда берут и убивают их.
За адвоката говорила Сашка. Что если всё-таки его того, то вместе будет с Васькой, раз Васька в нём, – а может, там живой?
– Ты дура, что ль?
Пока поспорили, Добжанский душегуб корзинку опрокинул и пулей сквозь садовые ряды к своей спасительной Добжанской побежал и больше в руки даже Сашке не давался, на жилы шмоть – и то не подойдёт, признал врага в лицо и власть над силой силы. Но меньше воровать и убивать не стал – хитрей, шустрее воровал, быстрее убивал. Почти догнав его Добжановой калиткой, где кот, как тень, в та-а-кой вот под доской зазор – и жив, а ты в забор и лбом, Петруша обещал ему через сомкнувшиеся доски:
– Ну ладно, сам подохнешь, крыс.
– Подуеть бабушка, заразу сдуеть, а то зараза попадёть – и будить баба светы хоронить, давай, нягожа, оберну, замёрз? – И завернёт его в большое полотенце.
Уже не холодно, мурашки разбежались под пижамой. Он почитает «Ёлки на горе», или «Мюнхгаузена» книжку, или какую Сашка почитать дала.
Белеет горб её перин высоких, лампадки скачет над Помпеей огонёк, под тусклым пятачком настольной лампы она листает книги чёрной тусклые стихи на пожелтевших листьях.
– Царю нябесны божи правый, истины твоя над сякое созданье, прости сей день дяло?м и словом, помышленьем, не прогневись и ниже помяни. Ты бо еси бох наш во сём, рука твоя о нас без всякого ответа недоумаваши уповахом, се яко царствие твоё, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас. Аминь… Перекрестись. Перекрястился?
– Да.
– Не видить бабушка, ну, де? Хляжу.
– Чего, ещё?
– Исть лишний грех, а кресть на мир не ляжеть лишний, перекрестись, сказала, ну! кресть чёрта отгоня?т.
– Нет чёрта, ба.
– Да вон сядить.
И чёрт сидит в углу, под тумбочкой, где шевеля?тся тряпки.
– Всё, спатьки, Петя, я гашу.
Во всем дому она на ночь погасит свет, ещё разок из горницы уйдёт, себя перепроверить, «не дай осподь закоротить», подёргает все вилки из розеток, посмотрит, крепко ли замки, щеколды на двери. С её шагов тяжёлых легче на душе, уютней тикают часы, надёжней тоненькие стены, задвинет занавеску – как спасёт. Проверит у входной между галошами колун на гнутой ручке, от воров, когда из Долгопрудного канал переплывут, пойдут участки грабить-убивать – оборонять, и успокоит:
– До нас-то, Петя, не дойдуть, дасть бох.
– Чего, ба, не дойдут?
– Широ?ко здесь канал переплывать, началом линии пойдуть, до нас собаки слають…
– Ты услышишь?
– Чаво же не ушлышу-то…
И подорожником заткнет в ушах от старика, во рту от гнили – и храпит.
Собаки перекличкой в темноте с начала линии всё ближе воют, и сердце думает: идут…
– Ба! Ба!
– Чаво ты…
– Ба… Идут!..
И с подорожника шипит:
– Да шпи, ополоумный, первый чась…
– Ба… да идут!
– Не те. Ш покойников они, ш воров-то лають, шпи, во шне, быват, и шмерть прошпишь… то мало осподу приштало-то во шне? Который угорить, какой живьём сгорить, какого котик серой убаюкать.
– Какой, баб, котик… Ба!
– Чаво?..
– Какой, ба, кот ещё?..
– А то шквось штены ходить коть, какой жамок ни жапирай. На хрудь приляжить, старь, молодь – приляжить, швярнётся, замурчить и в камянь обернётся. Тяжёлый камень, не вздохнуть. Удо?хнешься, под утро баба хвать, а уж холоденькой ляжишь, прибрал осподь бессмертну душу.
Собаки лают, воют, дверь скрипит, из Долгопрудного бандиты линией идут, как поросей, хозяев вяжут, режут, она храпит, проснётся и бубнит за стеночкой покойник; заснёшь – и смерть проспишь, проснёшься мёртвым. Бессмертну душу в рай, жарок червям, а косточки земле.
– Петруш, жавой?
– Живой.
– Жавой, тохда вставай.
8
Добжанский кот гулял с тех пор участком в полной власти, пока их в доме нет, нахально на веранду заходил, с кастрюль сбивая крышки, громыхал, тянул курятину с бульона, с безделья жаб и бабочек давил, завалинкой укладывал придушенных кротов и мышек тюльки, под пугалом сидел, синичек караулил, гад такой.
Петруша шланг опять тянул, травой разматывая кольца, и, отвинтив рычаг, окатывал кота и пугало водой.
– Ты чё ж творишь, бисова сила?
– Я, ба, кота…
– Да де кота? Кота няма, а баба вся в мокре?.
– А я, ба, видел, что ты там?
– Проклятый идоль. Хлаза из жопь и руки из овна.
Кота поймала на своём участке Сашка, на полосе нейтральной с рук на руки отдала, судить.
Судить затиснули в корзину, едва с шипящей мордой и когтями упихав, закрыли с бочки кругом, поясом на бантик, сверху кирпичом, к сараям унесли. В тени сиреневых кустов под верстаком за воровство, убийства и разбой, особенно за Ваську, голосованием два на одного приговорили к смерти, чрез повесить или утопить. Пока судили, кот орал как режут, выл и дрался сам с собой, спиной под бантиком приподнимая крышку и кирпич. Так жить хотел – через плетёнку лезла дыбом шерсть. Они, убийцы, только одного боятся – когда берут и убивают их.
За адвоката говорила Сашка. Что если всё-таки его того, то вместе будет с Васькой, раз Васька в нём, – а может, там живой?
– Ты дура, что ль?
Пока поспорили, Добжанский душегуб корзинку опрокинул и пулей сквозь садовые ряды к своей спасительной Добжанской побежал и больше в руки даже Сашке не давался, на жилы шмоть – и то не подойдёт, признал врага в лицо и власть над силой силы. Но меньше воровать и убивать не стал – хитрей, шустрее воровал, быстрее убивал. Почти догнав его Добжановой калиткой, где кот, как тень, в та-а-кой вот под доской зазор – и жив, а ты в забор и лбом, Петруша обещал ему через сомкнувшиеся доски:
– Ну ладно, сам подохнешь, крыс.