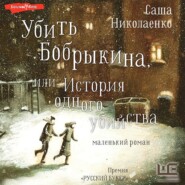По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравьиный бог: реквием
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Пройдёт по сумеркам, ворча, к калитке дальней, ночь запереть в четыре досочки гнилых на трёх гвоздях замком амбарным; её стирает синева ночного сада, и только хруст галош, щебёнки шорох и тёмных листьев шепоток. Тук-тук, стучат в окно седые мотыльки, и мошки нимбами кружат над нимбами ромашек, со всех сторон кузнечики трещат, как будто не снаружи, а внутри, как сам трещишь, гудишь, жужжишь, когда глаза закроешь. Откроешь – небо над тобой, закроешь – нет.
Вечерний хор июльского оркестра, на дне у неба и земли лежишь, раскинув руки, и в спину прорастает вечная трава в подлунном тёмно-синем воздухе цветов. Лягушки пролетают над тобой, взбирается на пик коленки муравей, а солнце всё горит пожарной вышкой через решётки башни часовой.
– Петруш, ты де?
И он молчит.
– Петруша-а-а! шатана такой, ты де? Пе… осподи помилуй! Что ж ты делашь, а? А ну вставай! Вставай, зараза без мозгов, чаво пугашь-то бабку? Вставай, дурня?. Зямлёй успеешь отдохнуть.
Они на лавочке сидят за Василевских домом, воскресшего Добжанского кота пытают, где он был. Петруша держит жирозадого за лапы, чтоб не дёрнул, а Сашка чешет щёткой, чтоб размяк.
– Хороший кот, хороший котик, Васька… Наверно, Шарика видал, да, Вась? Где Шарик, Вась?
Но кот мурчит, искрится, выгибает спинку и щурит лунный жёлтый глаз.
– Петруша?.. Де тя ж черти носють?.. Петька-а-а!
– Тебя зовёт…
– Меня здесь нет.
И, выглянув за дом, тёть Люба говорит:
– Петь, бабушка зовёт.
– Мам, нас тут нет… – И Сашка руки перед носом, как молитвой: – Ну, ма, мам, ма-а, пожалуйста, нас нет…
– Десятый час.
– Ещё чуть-чуть…
Ещё чуть-чуть их нет.
Убийца не сообразит, бежать или урчать? – и хорошо ему, и жутко. Свобода дорога, неволя сладка, и хвост как маятник – туда-сюда. На ёжике расчёски шерсть и семечки репьёв, на лаковых штанцах сосульки глины, из пасти тухлицо?й несёт, из глубины утробный рык. Под бархатом холёной шкуры – многоголосой смерти переклик. Убийца пойман. На совести его кроты, полёвки, птички, смерть бабочек, стрекоз, кузнечиков, лягух, разбитые скорлупки, на совести его разбросаны посадом кости из бульонов, литавры сбитых крышек, Васька-душегуб.
– Хороший кот, хороший, Вась…
И уши жмутся к голове, и правый глаз косит налево…
– У-у…
– Пустите вы его…
– Любаша-а!
– Ай?
– Приблудный мой у вас?
– Да где-то были тут…
– Ой, Люб, нет сил моих на их… Один тяжной, другой блажной, ложись да помирай, еро?жится над бабкой, поросёнош…
И тётя Люба закричала тоже:
– Саша! Саш!
И вдоль нейтральной полосы они идут вдвоём на дальние зады, в два голоса крича:
– Петруша!
– Саша!
И от кургана отвечает эхо:
– Аша!..
– Уша!..
Добжанский-душегуб сутулится…
– Рычит…
– Хороший котик, Вася… лапочка, красавец… Где Шарик, Вася? Покажи!
– Ну чё, пускать?
– Давай…
И кот, пружиной с места разогнувшись, вверх летит, вильнув куда-то вбок, прошкрябав темноту.
И темнота.
– Гадюк…
– Куда он делся-то?
– Туда…
– Вась-Вась! Вась-Вась! Васю-ю-ша! Вась-Вась! Кись-кысь!.. Сыно-о-к… кись-кысь… кись-кысь… домой иди! – несётся вдоль заборов от добжанской стороны.
Вечерний хор июльского оркестра, на дне у неба и земли лежишь, раскинув руки, и в спину прорастает вечная трава в подлунном тёмно-синем воздухе цветов. Лягушки пролетают над тобой, взбирается на пик коленки муравей, а солнце всё горит пожарной вышкой через решётки башни часовой.
– Петруш, ты де?
И он молчит.
– Петруша-а-а! шатана такой, ты де? Пе… осподи помилуй! Что ж ты делашь, а? А ну вставай! Вставай, зараза без мозгов, чаво пугашь-то бабку? Вставай, дурня?. Зямлёй успеешь отдохнуть.
Они на лавочке сидят за Василевских домом, воскресшего Добжанского кота пытают, где он был. Петруша держит жирозадого за лапы, чтоб не дёрнул, а Сашка чешет щёткой, чтоб размяк.
– Хороший кот, хороший котик, Васька… Наверно, Шарика видал, да, Вась? Где Шарик, Вась?
Но кот мурчит, искрится, выгибает спинку и щурит лунный жёлтый глаз.
– Петруша?.. Де тя ж черти носють?.. Петька-а-а!
– Тебя зовёт…
– Меня здесь нет.
И, выглянув за дом, тёть Люба говорит:
– Петь, бабушка зовёт.
– Мам, нас тут нет… – И Сашка руки перед носом, как молитвой: – Ну, ма, мам, ма-а, пожалуйста, нас нет…
– Десятый час.
– Ещё чуть-чуть…
Ещё чуть-чуть их нет.
Убийца не сообразит, бежать или урчать? – и хорошо ему, и жутко. Свобода дорога, неволя сладка, и хвост как маятник – туда-сюда. На ёжике расчёски шерсть и семечки репьёв, на лаковых штанцах сосульки глины, из пасти тухлицо?й несёт, из глубины утробный рык. Под бархатом холёной шкуры – многоголосой смерти переклик. Убийца пойман. На совести его кроты, полёвки, птички, смерть бабочек, стрекоз, кузнечиков, лягух, разбитые скорлупки, на совести его разбросаны посадом кости из бульонов, литавры сбитых крышек, Васька-душегуб.
– Хороший кот, хороший, Вась…
И уши жмутся к голове, и правый глаз косит налево…
– У-у…
– Пустите вы его…
– Любаша-а!
– Ай?
– Приблудный мой у вас?
– Да где-то были тут…
– Ой, Люб, нет сил моих на их… Один тяжной, другой блажной, ложись да помирай, еро?жится над бабкой, поросёнош…
И тётя Люба закричала тоже:
– Саша! Саш!
И вдоль нейтральной полосы они идут вдвоём на дальние зады, в два голоса крича:
– Петруша!
– Саша!
И от кургана отвечает эхо:
– Аша!..
– Уша!..
Добжанский-душегуб сутулится…
– Рычит…
– Хороший котик, Вася… лапочка, красавец… Где Шарик, Вася? Покажи!
– Ну чё, пускать?
– Давай…
И кот, пружиной с места разогнувшись, вверх летит, вильнув куда-то вбок, прошкрябав темноту.
И темнота.
– Гадюк…
– Куда он делся-то?
– Туда…
– Вась-Вась! Вась-Вась! Васю-ю-ша! Вась-Вась! Кись-кысь!.. Сыно-о-к… кись-кысь… кись-кысь… домой иди! – несётся вдоль заборов от добжанской стороны.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: