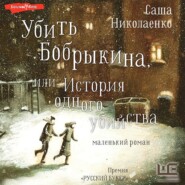По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Муравьиный бог: реквием
Год написания книги
2022
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Жива была, но мучилася-то… А после ангел к ей слетел и исцелил от мук; потом, как ангел исцелил, её казнили… Ты посмотри… проклятое тварьё!.. Лятять, поганые, лятять, кому ты, божи, столько ро?дишь их?!
Июню под конец, когда совсем дуреют с жару мухи, гудят в саду, в дому, как будто дом сейчас взлетит, упал с гнезда и прямо в бочку воронёнок. Петруша в бочку заглянул проверить своего жука, какому крылья оторвал, чтоб посмотреть, чего он будет делать, а в бочке лучше всякого жука. И только руку протянул достать, как сверху налетело, крыльями треща и гогоча, ударило в затылок, в волосы вцепилось, царапало, драло, клевало и рвалось… И, руки вверх задрав, он ухватил безумное вопящее живое, держал горячий и тяжёлый перьев куль, вопя от ужаса и отвращенья сам, и отшвырнул, вопя; и стало тихо.
Со лба стекало липким по щекам, щипалось больно, и долго гаснуть не хотел в распахнутом глазу вороньем отчаяньем и ненавистью полный огонёк.
Он вынул воронёнка из воды, погладил на ладони мокрый клюв, потрогал скрюченную, с коготком дрожащим лапку и, отшвырнув ногой под флоксы сломанный вороний куль, сказал:
– Да дура! я спасти его хотел…
Пошёл домой.
– Ба! Погляди чего…
– Ой, матерь божья, кровь… убил? Убился? Что?!
– Убил…
– Кого?
– Ворону… там её случайно, баб, она… Ба, погляди, кто у меня! Упал с гнезда…
– Ой, осподи помилуй, ворожок… Чаво ж, Петруш, дохлятину домой? Иди лопату-то возьми, в курган зарой…
– Чего зарой, баб? Он живой!
– И ничаво, живым зарой.
– Ты чё?
– Поговори, ты чё, поговори! Смерть в дом не шла, так сам принёс опять?
– Да ладно, баба! Ладно, баба, бъять!
– Да тьфу на вас, няси, сказала, эту гадь из дому. Всё! И всё мне чтоб, а там хоть Васькой, хоть Засраськой окрясти…
– Его на улице какой-нибудь сожрёт, баб, можно?..
– Можно. Дождись, как бабушка помрёть, недолго ждать.
Она пошла к плите и, отвернувшись, загремела над солянкой крышкой. Петруша ворожка унёс в беседку, на тряпочки в коробку «Сахар» положил и Васькой, чтобы знала обзываться, окрестил.
– Ба, баб? пойди сюда…
– Чаво?
– Смори, как Васька из пипетки пьёт…
– И видеть не хочу ведьмёнка твояго, сам сатана – и выкормыш антихристь. Де взял? А ну-ка, дай сюда! Пяпетку загубил!
– Да, баб, в коробке ж три…
– Три – да твои? твои мне три? ты покупал? Ты покупал?! Да что ж ты будешь делать с ним, с заразой… Ну ты смотри – чертей с пяпетки кормить божьим молоком!..
– Да ба, я с чайника потом её полью, обезвора?жу.
– Обезворазить он, хляди, рязинка вон и так без кипятков сопрела, берёшь добром, а отдавать чем будешь? Дай сюда!
– Ну, баб, ба, баб! Да ба, ну посмотри…
Она смотрела, как с пипетки кормит Ваську, удивлялась:
– Ишь ты, ой ты заморыш, ой… как к мамке клювом зявкат, надо ж, ты смотри? Чив-чив… ой ты, утопыш… Чий бесь бисём, а тожа сирота…
– Чего, баб, сирота – он мой.
– Ой – «мой»… де сам-то свой тельняшка? Под богом ходим, дурачок.
Беседки чердаком к столу придавленная крыша, под складнем дров, под весом синевы, под чёрной ямой глубины над ней, где бесконечности достанет мига, чтобы втянуть и растворить тебя в себе.
– А сколько, ба, у нас?
– Двенадцать соток здесь.
Её земли, своей земли.
И держит паузу оркестр нейтральной полосы. «Маяк» передаёт «В рабочий полдень». Здесь всё успей, за всем вставай, за всем – ходи. Полей, поли?, спасай. Здесь каждый царь своим двенадцати наделам, рассадкам, розам, флоксам, тлям, обеду. Пока не грянет гром и налетевший ураган не опрокинет яблони, как спички, и белый град горох не посечёт.
В примолкших джунглях сада – жизнь доисторических существ: седые тени малярийных комаров скользят сквозь реечки террасы, плетёт гамак убийца-паучок, поменьше ты – и вот он ад. Землетрясения, лавины и вулканы, затмения, водовороты, смерчи, гибель Атлантид – девятый вал твоих шагов.
Под богом ходим, дурачок.
Сочится пыльными лучами свет сквозь кровельные щели, как будто правда над покатой крышей в жарком киселе висит не солнце, а тарелка марсиан, инопланетный луч скользит, не понимает, что за существа: скелет истлевшего зонта на деревянной ручке, папин спиннинг, галоша, самовар, коробка с Васькой, корзинка с шелухой, старуха и чумазая коленка, прижавшаяся краешком стола.
Под богом ходим, дурачок.
Вслепую ищет смерть – кого втянуть, кого отнять, обнять и отобрать… Разумна? Дрожит на стенке солнечная сеть и гаснет, и темнота от тучи грозовой на их двенадцать бед надвинется мгновенно, тринадцатой бедой разинет пасть и ливанёт…
– Платок тебе давала бабушка, давала? Ты посмотри, чем гадь свою накрыл…
– Ну, ба же! одеяло… ба! Ну, не бери…
– Всю душу бабе измотал…
– Хороший, баб, он, да? Они, ба, умные, по-человечьи, тётя Люба говорила, говорят… как попугаи, если научить…
– И ты по-человечьи говоришь, а человечьего не знашь.
– Ба, да чего?
Июню под конец, когда совсем дуреют с жару мухи, гудят в саду, в дому, как будто дом сейчас взлетит, упал с гнезда и прямо в бочку воронёнок. Петруша в бочку заглянул проверить своего жука, какому крылья оторвал, чтоб посмотреть, чего он будет делать, а в бочке лучше всякого жука. И только руку протянул достать, как сверху налетело, крыльями треща и гогоча, ударило в затылок, в волосы вцепилось, царапало, драло, клевало и рвалось… И, руки вверх задрав, он ухватил безумное вопящее живое, держал горячий и тяжёлый перьев куль, вопя от ужаса и отвращенья сам, и отшвырнул, вопя; и стало тихо.
Со лба стекало липким по щекам, щипалось больно, и долго гаснуть не хотел в распахнутом глазу вороньем отчаяньем и ненавистью полный огонёк.
Он вынул воронёнка из воды, погладил на ладони мокрый клюв, потрогал скрюченную, с коготком дрожащим лапку и, отшвырнув ногой под флоксы сломанный вороний куль, сказал:
– Да дура! я спасти его хотел…
Пошёл домой.
– Ба! Погляди чего…
– Ой, матерь божья, кровь… убил? Убился? Что?!
– Убил…
– Кого?
– Ворону… там её случайно, баб, она… Ба, погляди, кто у меня! Упал с гнезда…
– Ой, осподи помилуй, ворожок… Чаво ж, Петруш, дохлятину домой? Иди лопату-то возьми, в курган зарой…
– Чего зарой, баб? Он живой!
– И ничаво, живым зарой.
– Ты чё?
– Поговори, ты чё, поговори! Смерть в дом не шла, так сам принёс опять?
– Да ладно, баба! Ладно, баба, бъять!
– Да тьфу на вас, няси, сказала, эту гадь из дому. Всё! И всё мне чтоб, а там хоть Васькой, хоть Засраськой окрясти…
– Его на улице какой-нибудь сожрёт, баб, можно?..
– Можно. Дождись, как бабушка помрёть, недолго ждать.
Она пошла к плите и, отвернувшись, загремела над солянкой крышкой. Петруша ворожка унёс в беседку, на тряпочки в коробку «Сахар» положил и Васькой, чтобы знала обзываться, окрестил.
– Ба, баб? пойди сюда…
– Чаво?
– Смори, как Васька из пипетки пьёт…
– И видеть не хочу ведьмёнка твояго, сам сатана – и выкормыш антихристь. Де взял? А ну-ка, дай сюда! Пяпетку загубил!
– Да, баб, в коробке ж три…
– Три – да твои? твои мне три? ты покупал? Ты покупал?! Да что ж ты будешь делать с ним, с заразой… Ну ты смотри – чертей с пяпетки кормить божьим молоком!..
– Да ба, я с чайника потом её полью, обезвора?жу.
– Обезворазить он, хляди, рязинка вон и так без кипятков сопрела, берёшь добром, а отдавать чем будешь? Дай сюда!
– Ну, баб, ба, баб! Да ба, ну посмотри…
Она смотрела, как с пипетки кормит Ваську, удивлялась:
– Ишь ты, ой ты заморыш, ой… как к мамке клювом зявкат, надо ж, ты смотри? Чив-чив… ой ты, утопыш… Чий бесь бисём, а тожа сирота…
– Чего, баб, сирота – он мой.
– Ой – «мой»… де сам-то свой тельняшка? Под богом ходим, дурачок.
Беседки чердаком к столу придавленная крыша, под складнем дров, под весом синевы, под чёрной ямой глубины над ней, где бесконечности достанет мига, чтобы втянуть и растворить тебя в себе.
– А сколько, ба, у нас?
– Двенадцать соток здесь.
Её земли, своей земли.
И держит паузу оркестр нейтральной полосы. «Маяк» передаёт «В рабочий полдень». Здесь всё успей, за всем вставай, за всем – ходи. Полей, поли?, спасай. Здесь каждый царь своим двенадцати наделам, рассадкам, розам, флоксам, тлям, обеду. Пока не грянет гром и налетевший ураган не опрокинет яблони, как спички, и белый град горох не посечёт.
В примолкших джунглях сада – жизнь доисторических существ: седые тени малярийных комаров скользят сквозь реечки террасы, плетёт гамак убийца-паучок, поменьше ты – и вот он ад. Землетрясения, лавины и вулканы, затмения, водовороты, смерчи, гибель Атлантид – девятый вал твоих шагов.
Под богом ходим, дурачок.
Сочится пыльными лучами свет сквозь кровельные щели, как будто правда над покатой крышей в жарком киселе висит не солнце, а тарелка марсиан, инопланетный луч скользит, не понимает, что за существа: скелет истлевшего зонта на деревянной ручке, папин спиннинг, галоша, самовар, коробка с Васькой, корзинка с шелухой, старуха и чумазая коленка, прижавшаяся краешком стола.
Под богом ходим, дурачок.
Вслепую ищет смерть – кого втянуть, кого отнять, обнять и отобрать… Разумна? Дрожит на стенке солнечная сеть и гаснет, и темнота от тучи грозовой на их двенадцать бед надвинется мгновенно, тринадцатой бедой разинет пасть и ливанёт…
– Платок тебе давала бабушка, давала? Ты посмотри, чем гадь свою накрыл…
– Ну, ба же! одеяло… ба! Ну, не бери…
– Всю душу бабе измотал…
– Хороший, баб, он, да? Они, ба, умные, по-человечьи, тётя Люба говорила, говорят… как попугаи, если научить…
– И ты по-человечьи говоришь, а человечьего не знашь.
– Ба, да чего?