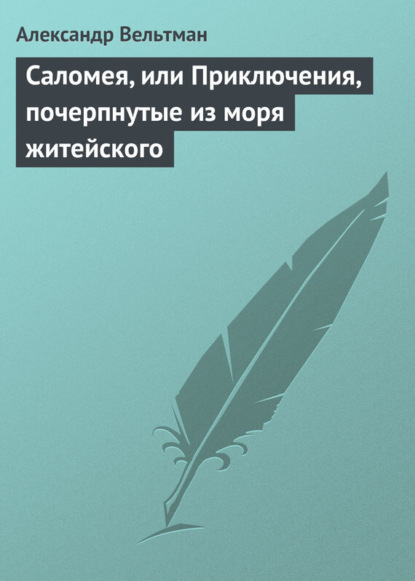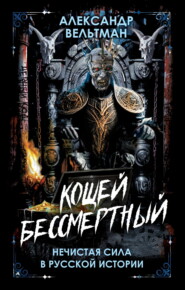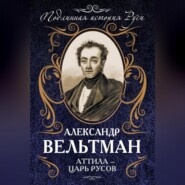По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Саломея, или Приключения, почерпнутые из моря житейского
Автор
Год написания книги
1848
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вошедший Иоганн прервал нравственные размышления Дмитрицкого докладом, что к нему приехали какие-то господа и желают непременно его видеть.
– Так мы едем сегодня в клуб? – оказал Дмитрицкий, – я распоряжусь, чтоб тебя записали.
– Пожалуй; но что я буду делать в клубе?
– Сегодня заказной обед на славу.
– Это для меня плохой соблазн.
– Не все ли равно скучать здесь или там? По крайней мере посмотришь на чудаков, которые откармливают себя для того только, чтоб их со вкусом съели черви. До свидания, mon cher.
Когда Дмитрицкий вышел, Рамирский занялся чтением французской сказки про блуждающего жида[283 - Имеется в виду роман французского беллетриста Евгения Сю (1804–1857) «Вечный жид», весьма популярный в 40-х годах прошлого века.] и читал до тех пор, покуда индейский принц Джальма и мадам де Кордевиль заснули вечным сном, а сам он задремал.
В это время собирался в клуб к обеду на славу Чаров. Приказав запрягать коляску, он, однако же, ходил молча по комнате в беспокойной нерешительности и посматривал на известную нам особу, которая раскинулась в креслах и, приложив руку к голове, также сидела молча и задумчиво.
– У тебя, верно, опять болит голова, Ernestine? Я съезжу посоветуюсь с доктором.
– Я вижу, что вам хочется куда-нибудь ехать; не сидится дома.
– Мне нужно сделать несколько визитов… Если я запоздаю, пожалуйста, не ожидай меня к обеду.
– Отчего же? я могу ждать, вы можете возвратиться в полночь.
– Вот прекрасно, в полночь; я возвращусь непременно часов в шесть.
– Это все равно для меня: я могу и не обедать.
– Фу, черт! Несносная баба! – проговорил про себя Чаров.
– Да для чего же не обедать, ma ch?re?
– Оттого что я не из куска хлеба у вас живу… Да сделайте одолжение, поезжайте; что вы обо мне заботитесь?
– Да нельзя же… Я не понимаю, за что тут быть в претензии.
– Какая претензия? Я вас не удерживаю.
– Нельзя же мне все дома сидеть… Я имею свои отношения, – проговорил Чаров с досадой.
– Я знаю, что во всех отношениях жена последняя. Но я еще не жена ваша, да и не наложница; вы это должны хорошо знать!
– Эй! – крикнул Чаров, – распречь! я не поеду.
Закурив сигару, он сел на диван, и тишина воцарилась.
– Я не знаю, – сказала Саломея смягченным голосом после долгого молчания, – для чего себя принуждать? Для чего вы не едете, когда вам хочется ехать? Если я высказываю чувства свои, кажется, не за что сердиться?… Я могу перенести скуку быть одной… Поезжайте… я займусь музыкой…
С Чарова как будто спали оковы. Помявшись еще немного на месте, он как будто нехотя встал, велел подавать лошадей.
– Если б не нужно было, право бы ни за что не поехал, – сказал он, сев подле Саломеи и поцеловав ее в плечо.
– Пошлите, пожалуйста, за мосье Жоржем, я буду с ним играть в четыре руки.
– Не понимаю, Эрнестина, что тебе вздумалось взять этого мальчишку; ну, какой он артист? Я тебе рекомендовал лучшего фортепьяниста…
– Учителя? Мне учитель не нужен.
– Но он мог играть с тобой в четыре руки; а этот мальчишка только сбивает тебя. Вчера я прислушался: ты его поправляла на каждом шагу.
– Ах, оставьте, вы не понимаете музыки.
– Как хочешь, ma ch?re, мне только досадно, что всякое животное берется не за свое дело. Я не понимаю, как ты не замечаешь, что он просто играть не умеет.
– Да, я хочу переобразовать его игру по своей методе и приспособить для аккомпанемента; с каким-нибудь глупым виртуозом этого сделать нельзя.
– Не понимаю. Впрочем, как хочешь, я только так сказал.
– В котором часу вы возвратитесь? – спросила Саломея, когда Чаров, прощаясь, поцеловал у нее руку.
– Я постараюсь скорее возвратиться; я не хочу, чтоб ты без меня скучала. Во всяком случае, я возвращусь часам к шести, и мы будем обедать вместе.
– Но вы не располагали обедать дома.
– Но ты не любишь обедать одна.
– Со мной будет обедать мосье Georges.
– Приглашать бог знает кого с улицы обедать с собой! – сказал Чаров с досадой. – Нет уж, пожалуйста, Эрнестина, это мечта!.. Всякая ска-атина будет у меня в доме обедать! – прибавил он по-русски.
– За кого вы меня почитаете? За женщину с улицы, которая не знает приличий? – произнесла, гордо вскинув голову и презрительно усмехнувшись, Саломея.
– Помилуй, Эрнестина… Ты всем обижаешься, – сказал Чаров, всегда смирявшийся пред непреклонным высокомерным взором ее. Он выражал для него всю полноту достоинства не только светской женщины высшего тона, но какой-то Юноны, нисшедшей для него с Олимпа[284 - Юнона в древнеримской мифологии жена Юпитера, богиня неба, покровительница браков.]. Как будто припоминая, что Эрнестина не простая смертная, Чаров тотчас же преклонял пред ней колена и молил о помиловании.
Вместо ответа на его слова Саломея очень спокойно отняла свою руку, которую он хотел взять.
– Ты меня не поняла, ma ch?re, – начал Чаров в оправдание, – мне все приятно, что ты желаешь… но иногда нельзя же… мне показалось, что ты рассердилась на меня и хотела затронуть этим мое самолюбие…
– Рассердилась! Что это за выражение? Я его не понимаю.
– Если не понимаешь, так и не сердись, – сказал Чаров, прилегая к плечу Саломеи.
– Пожалуйста, поезжайте; дайте мне успокоиться от неприятных чувств, которые вам так легко во мне возбуждать.
– Какая ты, Эрнестина, раздражительная, – хотел сказать Чаров, но побоялся. – Ну, прости, – сказал он ей вместо этого и помчался в клуб.
На душе у него стало легко. Есть тяжелая любовь, от которой истомленное сердце радо хоть вздохнуть свободно.
В клубе Чарова встретили с распростертыми объятиями. Он как будто ожил со всеми своими причудами и поговорками.
– Так мы едем сегодня в клуб? – оказал Дмитрицкий, – я распоряжусь, чтоб тебя записали.
– Пожалуй; но что я буду делать в клубе?
– Сегодня заказной обед на славу.
– Это для меня плохой соблазн.
– Не все ли равно скучать здесь или там? По крайней мере посмотришь на чудаков, которые откармливают себя для того только, чтоб их со вкусом съели черви. До свидания, mon cher.
Когда Дмитрицкий вышел, Рамирский занялся чтением французской сказки про блуждающего жида[283 - Имеется в виду роман французского беллетриста Евгения Сю (1804–1857) «Вечный жид», весьма популярный в 40-х годах прошлого века.] и читал до тех пор, покуда индейский принц Джальма и мадам де Кордевиль заснули вечным сном, а сам он задремал.
В это время собирался в клуб к обеду на славу Чаров. Приказав запрягать коляску, он, однако же, ходил молча по комнате в беспокойной нерешительности и посматривал на известную нам особу, которая раскинулась в креслах и, приложив руку к голове, также сидела молча и задумчиво.
– У тебя, верно, опять болит голова, Ernestine? Я съезжу посоветуюсь с доктором.
– Я вижу, что вам хочется куда-нибудь ехать; не сидится дома.
– Мне нужно сделать несколько визитов… Если я запоздаю, пожалуйста, не ожидай меня к обеду.
– Отчего же? я могу ждать, вы можете возвратиться в полночь.
– Вот прекрасно, в полночь; я возвращусь непременно часов в шесть.
– Это все равно для меня: я могу и не обедать.
– Фу, черт! Несносная баба! – проговорил про себя Чаров.
– Да для чего же не обедать, ma ch?re?
– Оттого что я не из куска хлеба у вас живу… Да сделайте одолжение, поезжайте; что вы обо мне заботитесь?
– Да нельзя же… Я не понимаю, за что тут быть в претензии.
– Какая претензия? Я вас не удерживаю.
– Нельзя же мне все дома сидеть… Я имею свои отношения, – проговорил Чаров с досадой.
– Я знаю, что во всех отношениях жена последняя. Но я еще не жена ваша, да и не наложница; вы это должны хорошо знать!
– Эй! – крикнул Чаров, – распречь! я не поеду.
Закурив сигару, он сел на диван, и тишина воцарилась.
– Я не знаю, – сказала Саломея смягченным голосом после долгого молчания, – для чего себя принуждать? Для чего вы не едете, когда вам хочется ехать? Если я высказываю чувства свои, кажется, не за что сердиться?… Я могу перенести скуку быть одной… Поезжайте… я займусь музыкой…
С Чарова как будто спали оковы. Помявшись еще немного на месте, он как будто нехотя встал, велел подавать лошадей.
– Если б не нужно было, право бы ни за что не поехал, – сказал он, сев подле Саломеи и поцеловав ее в плечо.
– Пошлите, пожалуйста, за мосье Жоржем, я буду с ним играть в четыре руки.
– Не понимаю, Эрнестина, что тебе вздумалось взять этого мальчишку; ну, какой он артист? Я тебе рекомендовал лучшего фортепьяниста…
– Учителя? Мне учитель не нужен.
– Но он мог играть с тобой в четыре руки; а этот мальчишка только сбивает тебя. Вчера я прислушался: ты его поправляла на каждом шагу.
– Ах, оставьте, вы не понимаете музыки.
– Как хочешь, ma ch?re, мне только досадно, что всякое животное берется не за свое дело. Я не понимаю, как ты не замечаешь, что он просто играть не умеет.
– Да, я хочу переобразовать его игру по своей методе и приспособить для аккомпанемента; с каким-нибудь глупым виртуозом этого сделать нельзя.
– Не понимаю. Впрочем, как хочешь, я только так сказал.
– В котором часу вы возвратитесь? – спросила Саломея, когда Чаров, прощаясь, поцеловал у нее руку.
– Я постараюсь скорее возвратиться; я не хочу, чтоб ты без меня скучала. Во всяком случае, я возвращусь часам к шести, и мы будем обедать вместе.
– Но вы не располагали обедать дома.
– Но ты не любишь обедать одна.
– Со мной будет обедать мосье Georges.
– Приглашать бог знает кого с улицы обедать с собой! – сказал Чаров с досадой. – Нет уж, пожалуйста, Эрнестина, это мечта!.. Всякая ска-атина будет у меня в доме обедать! – прибавил он по-русски.
– За кого вы меня почитаете? За женщину с улицы, которая не знает приличий? – произнесла, гордо вскинув голову и презрительно усмехнувшись, Саломея.
– Помилуй, Эрнестина… Ты всем обижаешься, – сказал Чаров, всегда смирявшийся пред непреклонным высокомерным взором ее. Он выражал для него всю полноту достоинства не только светской женщины высшего тона, но какой-то Юноны, нисшедшей для него с Олимпа[284 - Юнона в древнеримской мифологии жена Юпитера, богиня неба, покровительница браков.]. Как будто припоминая, что Эрнестина не простая смертная, Чаров тотчас же преклонял пред ней колена и молил о помиловании.
Вместо ответа на его слова Саломея очень спокойно отняла свою руку, которую он хотел взять.
– Ты меня не поняла, ma ch?re, – начал Чаров в оправдание, – мне все приятно, что ты желаешь… но иногда нельзя же… мне показалось, что ты рассердилась на меня и хотела затронуть этим мое самолюбие…
– Рассердилась! Что это за выражение? Я его не понимаю.
– Если не понимаешь, так и не сердись, – сказал Чаров, прилегая к плечу Саломеи.
– Пожалуйста, поезжайте; дайте мне успокоиться от неприятных чувств, которые вам так легко во мне возбуждать.
– Какая ты, Эрнестина, раздражительная, – хотел сказать Чаров, но побоялся. – Ну, прости, – сказал он ей вместо этого и помчался в клуб.
На душе у него стало легко. Есть тяжелая любовь, от которой истомленное сердце радо хоть вздохнуть свободно.
В клубе Чарова встретили с распростертыми объятиями. Он как будто ожил со всеми своими причудами и поговорками.