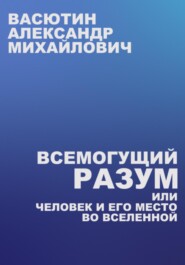По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Психохирургия – 3 и лечение с ее помощью самых тяжелых и опасных болезней души и тела
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поэтому можно говорить пациенту для ускорения этого процесса, что вам надо дойти до моря или до истока. Это ускорит движение. Ведь наша цель при движении по реке в том, чтобы пациент дошел или до истока или же до моря. И через это прикоснулся к своим ресурсам. И чем быстрее он это сделает – тем лучше. Если во время движения появляются преграды, если движение затягивается, то надо его стимулировать так: «Может быть, вы найдете лодку? И поплывете вниз быстрее. Ведь ваша цель – дойти до моря!»
Если человек совсем уж тормозит, то можно спросить: «Как вы думаете – долго еще реке течь до моря?» Или сказать, что в реку вливаются другие потоки, река течет туда, куда ей определено природой. Эти слова психотерапевта могут стимулировать образы расширения реки и, соответственно, более быстрый приход к морю.
Иногда пациенты не хотят искать, например цветок, если им предлагаешь выбор (вы хотите найти его?). Я считаю, что это хоть и слабое, но неосознаваемое сопротивление, идущее от СверхЯ. И когда я все же заставляю пациента взаимодействовать с ним, то пациент производит изменения. А СверхЯ не может запретить эту работу! Оно может запретить только работу непосредственно с подавленным воспоминанием. А с символ-образом не может. Но может вызвать у человека нежелание с ним взаимодействовать.
Понятно, что такой подход не соответствует канонам КИП. Но кто сказал, что эти каноны полностью верны? Психотерапия работает с «черным ящиком» бессознательного. И я много раз убеждался, что у разных людей при разных обстоятельствах один и тот же символ-образ для них означал разное.
Если человек пришел ко мне на лечение и, тем более, передал ответственность на меня за все, что я буду делать для его выздоровления, то в этом случае вовсе не обязательно говорить: «Может быть, вы хотите сделать то-то и то-то?» как это положено делать в КИПе. Можно сказать: «Идите и найдите цветок». В этом случае это не будет насилием и не вызовет сопротивления.
Если пациент пришел ко мне на лечение и передал мне ответственность за те изменения, которые ему необходимо сделать, я могу насильно заставлять его взаимодействовать с теми структурами его психики, которые ответственны за их появление.
Если я не буду это делать, то человек не проработает те конфликты, символ-образы которых он избегает. Конечно, если сопротивление нарастает, надо отступить. И попробовать сделать эту работу как-то по-другому. Или же вернуться к этой работе попозже, когда будут проработаны другие конфликты. Вполне возможно, что после этого работа пойдет намного легче.
Я уже говорил ранее, но еще раз повторю – большое, чуть ли не определяющее значение для достижения успеха в работе с символ-образами, имеют ваши установки. Ваше понимание – каков механизм действия работы с символ-образами?, принципиально важен. Если вы считаете, что процесс психотерапии долгий, он у вас и будет долгим.
Если же вы считаете, что даже с помощью работы с одним символ-образом, можно достичь больших результатов, то вероятность достижения этого резко повышается. Ваши знания – что означает символ-образ?, определяют результат.
Если вы считаете, что цветок – это человек и его отношение к себе, то в вашей работе это будет так. Если вы считаете, что это цветок любви, то вы будете работать с любовью человека. То есть не всегда, но для разных людей один и тот же символ-образ будет означать разное. Поэтому я весьма скептически отношусь к жесткому фиксированию значения мотивов, которая принята в СД.
С моей точки зрения символ-образ является «цветком» на теле бессознательного. Или же лучше сказать – надземной частью растения. И работа с ним меняет «корни».
Понятно, что в общем и целом, по основным параметрам, Лейнер был прав относительно значения мотивов. Но работая с конкретным пациентом нельзя быть рабом догм. И надо гибко реагировать на появившиеся у него образы, коррелируя их с анамнезом его болезни.
Во время сеанса работы с символ-образом образуется единое пространство между сознанием психотерапевта и пациента – на словесно-ментальном уровне. И точно так же образуется единое пространство между бессознательными – на телепатическом уровне.
То есть нельзя дать человеку символ-образ и в этот момент думать о чем-то другом – о своих проблемах, другом пациенте (и так далее и тому подобное). А он, мол, пусть сам работает. И чем лучше, уважаемые коллеги, вы будете понимать все эти механизмы и чем более активно и с интересом вы будете руководить процессом работы пациента, тем больших результатов добьетесь.
Иногда пациенты волнуются, что в процессе работы над символ-образом они рассуждают – как поступить лучше? И не мешает ли это работе? Я им в этом случае говорю, что если вы придете к выводу, что надо поступить так-то и так-то и это ошибочно, то я вас поправлю. И что ошибку в этом деле могу произвести только я.
Я тоже, как Когут, считаю, что позиция психотерапевта, работающего с психоанимацией, должна быть принципиально разрешительная. Он принимает такую позицию, будто описываемые пациентом сцены действительно существуют. Он как бы действует из квази-реальной в данный момент для пациента перспективы, что ведет к открытию дальнейших деталей кататимных образов для него.
После того, как пациент расскажет о своих переживаниях, надо спросить – что ему хочется сделать в представленном пейзаже? Во-первых, это тоже диагностика подавленных желаний. Во-вторых, через это мы получаем информацию для будущей психосинтетической работы.
Человек в своей реальной жизни по тем или иным причинам может быть не готов к удовлетворению подавленного желания. И когда он в символическом пространстве делает это в символической форме, то это может привести к его удовлетворению. В соответствии с нашей задачей – занимать по отношению к пациенту принципиально разрешительную позицию (которая редко встречалась в ходе его воспитания) – мы предоставляем пациенту возможность осуществления его желаний, мы даем ему свободу следовать его спонтанным импульсам. Тем самым мы добиваемся того, что у него открыто проявляются дремлющие в глубине души тенденции поведения. Разрешающая позиция психотерапевта в значительной степени снимает внутреннее напряжение.
Например, человек может прилечь на траве, попить воды из ручья, порыбачить. Также важно, что если человек попьет из ручья, то таким образом он удовлетворяет оральную потребность. Вследствие этого его эмоциональная структура настолько удовлетворяется, что пейзаж начинает казаться ему намного лучше. А через это символическое изменение меняется и структура его внутреннего Я.
Конечно, не всегда к нам на лечение приходят люди с ярким воображением. И они думают, что у них ничего не получится в результате этой работы. Таких людей я прошу представить квартиру, в которой они живут: слева это… справа это… впереди то… И когда они подтверждают, что представили это, я им говорю, что ЭТОГО уровня представления достаточно для данной работы. И, конечно же, образы у них все ровно получаются не яркие. Но благодаря этому приему пациент перестает из этого делать проблему. И в большинстве случаев у пациентов все начинает хорошо получаться – все лучше и лучше по мере вхождения в работу с образами.
Также можно, если у человека ничего не получилось с представлениями символ-образов (например, той же самой поляны), предложить ему увидеть себя лежащим на кушетке в кабинете. Затем предложить ему мысленно выйти из кабинета и выехать за пределы города. И найти там поляну.
Если во время сеанса пациент не реагирует на просьбу представить себе предлагаемый символ-образ, надо завершить сеанс. Вполне возможно, что это связано с тем, что он находится в СЛИШКОМ глубоком гипнотическом состоянии. И когда он откроет глаза, спросить его – как он себя чувствует? А затем попросить опять закрыть глаза и представить себе поляну. Этот прием позволяет и сохранить легкий транс и начать делать психоанимацию.
Если во время работы с цепочками у пациента внезапно появляются незапланированные психотерапевтом образы, то это является внезапным выбросом из бессознательных слоев психики материала, требующего проработки. Он до этого был глубоко скрыт в бессознательном и серьезно защищен Сверх-Я от осознания. Это говорит о том, что работа с цепочками расшатала эти защиты и материал, который был психологической «занозой», выскочил наверх. И бессознательное хочет, чтобы он был обезврежен. В этом случае нужно прервать работу с символ-образом и работать с выскочившим из бессознательного материалом.
Мы знаем, что при классическом использовании СД-мотивов психотерапевт должен быть как можно более пассивным. В этом методе в идеале вначале психотерапевт должен сказать: «Представьте себе луг…». И следующей его фразой должна быть такая: «И на этом мы закончим мотив!» Между этими фразами он должен подтверждать свое присутствие и полное внимание к тому, что говорит пациент, только «умгуканьем». Например, пациент остановился перед преградой\недо-пущением. И он должен стоять там до тех пор, пока у него У САМОГО не появится образ преодоления.
Если бы мы не были ограничены ни во времени, ни в финансах, то мы всегда дожидались бы, чтобы пациент находил выходы из тупика сам. Он должен сам пройти свой путь и найти собственные выходы, придя в конце концов к полностью адаптивным образам. Но так работать почти никогда не удается!
Поэтому при работе в психоанимации я занимаю намного более активную позицию, чем это постулируется в СД. Я советую, стимулирую, внушаю, я даю ориентиры (естественно, в тех рамках, к которым ГОТОВ пациент). С моей точки зрения в психоанимации психотерапевт должен быть мотором преобразований. И достаточно часто я даю прямые инструкции и приказы.
Конечно, это в ряде случаев (и для ряда психотерапевтов) может быть не совсем приемлемо. Тогда можно поступать более мягко. В этом случае вы можете сказать: «Что бы тебе хотелось сделать с этим образом? Может быть, ты хочешь сделать то-то и то-то?» И человек может согласиться с этим предложением или же не согласиться. Но так как это тоже завуалированная форма внушения, идущего от человека, которому пациент доверяет, то он, скорее всего, согласится.
Когда пациент расскажет – что он увидел после предъявления символ-образа, нельзя спрашивать: «Это красиво?». Надо говорить: «И как вы к этому относитесь?»
Если же человек говорит: «Я лечу..» и надолго замолкает, то можно сказать: «Итак, вы летите.» Это должно без всяких вопросов вызвать у него новый поток образов. Если же это не помогает, то можно спросить: «И что вы видите?»
Очень редко, но бывает, что пациент во время сессии хочет убить своих родителей, которые появляются перед ним в реальных образах. И, естественно, это ему нельзя позволять. Но если человек уничтожает символ родителей (и при этом знает, что разрушаемый предмет символизирует одного или обоих родителей), то таким образом убивается отрицательное отношение к родителям.
Пациент таким образом разряжает свою агрессию на них. Символически убив, он удовлетворяет свое желание отомстить за свои детские мучения. А если отомстил, то зачем продолжать носить в себе обиду? Ведь они получили свое!
Где-то в символдраматической литературе я читал о том, что работать над фиксированными образами намного важнее, чем над воплощающим импульсы материалом. Там говорилось, что попытка разрезать забор из колючей проволоки ножницами соответствует усилению импульса, что приводит к появлению железобетонного забора.
Но я считаю, что это вовсе не так! Если пациент САМ решит перерезать проволоку, то, скорее всего, у него это получится. Но если психотерапевт верит, что из-за этого появится преграда, то так и произойдет. Установки психотерапевта ОЧЕНЬ важны!
Шерток в какой-то своей книге писал, что когда он был молодым психотерапевтом и не знал, что какая-то болезнь не лечится гипнозом, он лечил ее. И вылечивал! Но когда он стал «мудрее», это знание привело к тому, что он уже не смог так лечить своих пациентов. Внутренняя установка влияла на его психотерапевтические интервенции таким образом, что выхолащивала их, делала его усилия бесплодными.
То же самое происходит и с людьми, которые хотят достичь чего-либо, научиться чему-либо. Если они на бессознательном уровне не верят, что это возможно, то их усилия будут напрасными.
Если психотерапевт, работая с символ-образами, считает, что он воздействует на глубинные мотивы, предопределяющие поведение человека, то так оно и будет. Если же он считает, что работа с образами – так, приятная забава для клиента, позволяющая ему немного переключиться со своих проблем на нахождение в мире иллюзий, то результат терапии будет нулевым. И не выше!
Но работа с цепочками символов далеко не забава! Показателем того, что работа, проводимая пациентом после предъявления символ-образа, не просто баловство и пустая фантазия, являются многочисленные случаи появления у пациентов в это время кратковременных болей в голове, в пораженных психосоматическим процессом органах, слез и так далее. Это вегето-сосудистые изменения, которые проявляются на поверхности тела как отражение тех глубинных перемен, которые происходят при работе с символ-образом.
Многие пациенты говорили мне, что у них во время работы с символ-образом появлялось ощущение, что их как бы перебирают – они чувствовали, что то расширяются, то сжимаются. Эти ощущения говорят о волнах преобразования. Только они отражаются не на теле, а как бы на поверхности личности. А мой сын, когда я ему сделал сеанс рефрейминга с последующей психоанимацией, после сеанса сказал, что в его голове как будто включили миксер.
Или, например, один из последних случаев. У меня лечилась пациентка, у которой никак не складывались отношения с мужчинами. Вроде бы она страстно желала построить долговременные отношения с каким-либо мужчиной, которого полюбит. Но они ее все время бросали, использовали ее и так далее. После прохождения символ-образов «Спящая красавица» и «Денежное дерево» она ТУТ ЖЕ познакомилась с достаточно богатым человеком и у них стали развиваться отношения. И он практически на каждом свидании давал ей некую сумму денег: «Ты придешь еще? Ты меня не забудешь?».
А муж, с которым она давно развелась, пришел на день рождения сына и подарил ей – ни с того, ни с сего – швейную машинку (для него это была ощутимая сумма). Этот случай четко показывает, что работа с символ-образами реально приводит к изменению бессознательных установок, что почувствуют окружающие и, соответственно, к изменению жизни человека в желаемую сторону.
Если между пациентом и психотерапевтом создались доверительные отношения, то бессознательное психотерапевта чувствует – что необходимо сегодня сделать для пациента? У меня лечилась пациентка с проблемами во взаимоотношениях с мужем. Во время сеанса она пошла по реке вверх. И дойдя до истока реки по-взаимодействовала с родником. Потом ей внезапно захотелось подняться на гору. И когда она поднялась, я сказал: «Говорят, что когда ты стоишь на горе, ты становишься ближе к Богу. И он тебя может услышать! Обратитесь к нему…»
После сеанса она была чуть ли не в шоке. И сказала, что утром она хотела зайти в церковь. Но она была закрыта (открывалась только в 9 утра). А тут я с ее точки зрения каким то волшебным образом почувствовал ее желание пообщаться с Богом. И это безусловно говорит, что я телепатически почувствовал это ее желание и неосознаваемо привел ее к этому.
Во время работы с цепочками символов образуется динамическое целое, когда бессознательное пациента коммуницирует с бессознательным психотерапевта, а их сознания являются посредниками. Или же образуется круг: психотерапевт что-то говорит, пациент осознает, начинает с этим образом работать. Он через это дает символические команды своему бессознательному. Этот материал перерабатывается его бессознательным и потом в переработанном виде выдается и наверх сознанию и бессознательному психотерапевта.
Психотерапевт слышит от пациента о тех образах, которые появляются перед его взором и думает – что это означает и что подсказать пациенту? И в этот момент получает подсказку из своего бессознательного.
Во время проведения сеанса психоанимации главная проблема, из-за которой в бессознательном образовался самый большой «гнойник», будет в той или иной форме проявляться в каждом символ-образе. Например, у Павла, который пришел на лечение для того, чтобы как-то разрешить ситуацию со своей гражданской женой, во всех символ-образах были образы, которые тем или иным боком были связаны с его взаимоотношениями с ней. Главная проблема, которая его беспокоила: получится ли у него с нею что-либо серьезное? А если не получится, то куда мне идти? И он обкатывал в образах свое возможное поведение в будущем.
Во время проведения цепочек символов неизбежно на «лобное место» выходят и какие-то образы, связанные с реальной жизнью. И вот здесь от искусства психотерапевта зависит – как он сможет использовать эти образы для того, чтобы превратить их в символ-образы. Если человек вспоминает на основе стандартного символ-образа что-то реальное, что когда-то произошло в его жизни, то с этим и надо работать, так как это детерминировано каким-то бессознательным конфликтом, который только и ждал, чтобы выйти на поверхность. Конечно же, то, что приходится делать в этом случае, в чистом виде нельзя назвать психоанимацией. Но так бывает при работе практически с каждым пациентом. И с этим надо уметь работать.
Я очень часто использую потенциал сказок, которые распространены в российском обществе (и это не обязательно только русские сказки, а все те, которые на «слуху» у пациента). И использую те способы выхода из затруднительных ситуаций, которые используют герои сказок. Естественно использую и современные мифы.
Очень важным моментом при работе в ПАТ является вопрос – когда, на каком этапе останавливать свободную работу пациента с образами? Лейнер говорил, что это можно делать в любое время и на любом этапе. Мне представляется, что это не так и надо помочь пациенту достичь хотя бы промежуточного результата.
В символ-образе должна появиться динамика в положительную сторону. Человека нельзя оставлять возле разбитого корыта! Нужно довести хотя бы до небольшого ресурсного места. Или же дойти хотя бы до первого проявления жизни (например, как у одной моей пациентки при выходе из пустого дома встретился большой белый пушистый кот). Символ-образ (или символ внутреннего конфликта) можно считать проработанным, когда у пациента кончаются слезы и в образе налаживаются отношения с людьми.
При работе с цепочками символов сложности с движением вперед появляются при прохождении тех символ-образов, которые отражают актуальный конфликт. Например, один мой пациент, которого я лечил от булимии, никак не мог дойти в символ-образе «Дорога» хоть до какого-либо приемлемого результата. День за днем он шел по дороге, а она не кончалась. В реальной жизни неудачи привели его к своеобразному «окукливанию» в болезнь, что предполагает отказ от контактов с миром, отказ от какого-либо движения вперед.