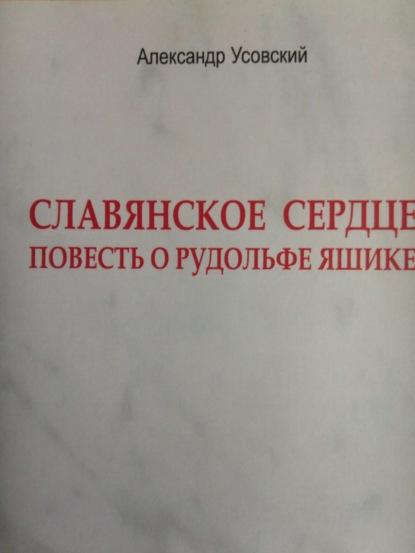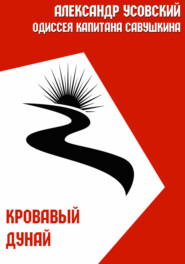По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Славянское сердце
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ничего поэтому нет удивительного в том, что многие чехи, не желая сражаться за интересы Австрии в начавшейся всеевропейской «мясорубке», сдавались в плен – иногда целыми полками, под медь полковых оркестров и с развевающимися знаменами. Также ничего удивительного нет в том, что политические руководители Антанты благосклонно встретили рождение Чехословацкого национального совета, созданного в разгар войны Томашем Масариком, Эвардом Бенешем и Миланом Штефаником в Париже – куда оные политические деятели Австро-Венгрии благоразумно свинтили накануне и в первые месяцы войны (принцип «Разделяй и властвуй» ведь не вчера придуман!). Масарик со товарищи решительно поставили на Францию – благо, профессор Масарик, будучи масоном, повсечасно встречал со стороны своих единомышленников во французском правительстве благосклонное участие. Русофильских же чешских политиков, не бывших столь дальновидными (и посему оставшимися на Родине) – Карела Крамаржа и Алоиса Рашина – австрийская полиция, несмотря на их депутатскую неприкосновенность, арестовала, а австрийский суд приговорил, на всякий случай, к смертной казни; кстати, этой же участи не избежали и коллеги Бенеша по анти-австрийскому «подполью», организованному им перед эмиграцией – Вацлав Клофач, профессора Гербен и Шайнер. И пока Масарик на пару с Бенешем окучивали западноевропейских и американских политиков на предмет разного рода послевоенных льгот и преференций «угнетенному чешскому народу», австрийская полиция старательно расчищала для этой «сладкой парочки» политическое поле на Родине.
28 октября 1918 года случилось неизбежное – министр иностранных дел Австро-Венгрии граф Андрашши объявил о намерении своего государства сложить оружие и начать переговоры о перемирии. В этот же день Чехословацкий национальный совет (к тому времени уже признанный Францией, Италией и Великобританией, и имевший в своих руках – чисто номинально, разумеется – вооруженную силу в лице «чехословацких легионов») объявил о независимости Чехословакии – а 30 октября Словацкий национальный совет заявил об отделении Словакии от Венгрии. Понятно, что оба эти «Совета» были мутными лавочками из случайных людей, которых никто никогда не выбирал – но в момент крушения старого мира десяток ловких авантюристов могут, при наличии определенной воли, беспредельной наглости и безграничного честолюбия, свернуть горы – история российской Февральской революции тому наглядный пример. К тому же эти люди яростно махали перед толпой бумагами о признании их «контор» со стороны Антанты – что, в общем-то, и было на тот момент подлинным ярлыком на княжение в де-факто ставших бесхозными австрийских владениях.
Как и в случае с Россией, главные мятежники и ниспровергатели «австрийского гнета» – Масарик и Бенеш – прибыли в Прагу уже после произошедшего ниспровержения Габсбургов, что, впрочем, ничуть не помешало им по-хозяйски занять кабинеты в Граде. Масарик объявил себя президентом, Бенеш – министром иностранных дел. Поскольку за спинами этих людей маячили штыки Антанты – шансы всех остальных претендентов на Главное кресло в Пражском Граде автоматически уменьшались до нуля. Официально Томаш Гарриг Масарик возглавил Чехословакию только 29 февраля 1920 года – но это уже не имело никакого значения. Имело значение лишь то, что тщанием его и его министра иностранных дел Эдварда Бенеша на Версальской мирной конференции были официально закреплены и утверждены границы Чехословакии – именно те границы, которые через двадцать лет станут причиной её гибели…
?
Однако, сколько же ему пишут…. «Альжбета» всколыхнула душу многих – не зря он вложил в неё столько сил; первая любовь – тема тонкая и чрезвычайно деликатная, но ему, кажется, всё же удалось сохранить в книге едва уловимое, трепетное, светлое и невесомое ощущение пробуждения первого чувства…
Ему тогда было пятнадцать – как же кружила ему голову та весна! Озорные взгляды Аниты – он и сейчас хорошо помнит, как лучились теплом и надеждой её глаза; тогда для счастья ему хватало одного лишь её взгляда! Всего три недели…. Или целых три недели? В юности совсем иной счет времени…
Позавчера приезжал Павел – по-крестьянски основательный, молчаливый, сосредоточенный; привёз овечьего сыра, деловито советовался с врачами, куда отвезти его после операции. Дружище, как же я рад, что у меня есть ты! И твоя жена – та, которую ты вытащил из вагона с «остарбайтерами» на станции Житомир…. Ещё двадцать минут – и вы бы уже никогда не были вместе! Упрямо отвергавший всякие религиозные разговоры, молча избегающий исповеди у полкового капеллана – ты тогда в последней надежде бросился за помощью в униатскую церковь на окраине Овруча, и ветхий священник с совершенно седой бородой выписал тебе свидетельство о венчании – хотя, ручаюсь, не понял и трети из того, что ты ему сбивчиво и сумбурно говорил, пихая ему в руки тощую пачку оккупационных марок…. На связном самолете, каким-то чудом уговорив пилота, ты долетел до Житомира, держа у сердца эту бумагу – и вырвал-таки свою Галину из лап педантичного и сухого обер-лейтенанта, начальника эшелона. Это было маленькое чудо – но ведь настоящая любовь способна творить чудеса, я это хорошо знаю…. И когда ты, счастливый и радостный, сажал свою новоиспеченную жену в вагон для отпускников до Прешова – мы все по-хорошему завидовали тебе, тому, что в пламени этой вселенской свистопляски, среди крови, несчастья и слёз – вы оба обрели любовь…. Ведь любовь, мой друг Павел, это единственное, ради чего стоит жить – и ради чего не жаль умереть! Ты не меньше меня это знаешь…. Когда ты двадцать девятого августа открыл для восставших рабочих ворота цейхгауза, зная, что за это – по законам военного времени – тебе грозит расстрел – я знаю, ты сделал это во имя любви. К своим товарищам, к своей стране, к своей жене – ради которой совершил невозможное…. Как же я люблю тебя, дружище! Мне будет очень не хватать тебя там, куда я скоро отправлюсь…
Нитра, католическая гимназия, 15 марта 1935 года
Умерла бабушка…. Рухнул целый мир – ЕГО мир; было такое чувство, как будто обрушилась стена, на которую вся их семья всегда могла опереться – и вдруг этой стены не стало…. А за этой рухнувшей стеной открылся огромный, совсем чужой, враждебный мир – в котором ему теперь придется жить самостоятельно – и растерянная, плачущая, сбитая с толку, испуганная мать будет смотреть на него, как на последнюю свою надежду… но ведь ему только пятнадцать лет! И братья – им тоже придется теперь тяжело…. Бабушка так хотела, чтобы он выучился на священника – и он поступил в эту гимназию при семинарии, хотя вся его душа бунтовала против этого; теперь он вынужден будет уйти из гимназии, так и не исполнив бабушкину мечту – просто потому, что учится ему будет не на что: бабушка каждый месяц высылала ему по сотне крон, без этих денег ему в Нитре просто нечего будет есть, нечем платить за интернат…. Но самое чёрное, самое отчаянно безысходное во всём этом – это то, что больше он никогда не увидит Аниту…
Когда в двадцать восьмом году его, деревенского мальчишку с гор, привезли в Нитру – он поначалу не мог поверить во все то, что видел – высокие дома, автомобили, тысячи людей…. В Турзовке ему никогда не доводилось видеть всего этого – вечным спутником его детства была величественная тишина гор зимой, их таинственный, глухой шепот летом, шум бурлящей Кисуцы весной, когда она каждый март грозила, разлившись, снести их маленький домик…. Горы всегда окружали его, он привык к ним – и вдруг их не стало: поезд, в который его, собрав нехитрые пожитки, посадила мама, выехал на равнину нижней Нитры.
На перроне его встречала бабушка – тогда ещё крепкая, молчаливая женщина едва за пятьдесят; взяв его за локоть одной рукой и крепко ухватив его деревенскую полотняную суму второй – она быстрым шагом потащила его в город, не давая времени вдоволь поудивляться открывающемуся волшебному миру…. В тот день он решил, что Нитра – это самый большой город на земле: за недолгую дорогу от станции до семинарии ему встретилось людей раз в двадцать больше, чем всего жило в Турзовке!
Здание семинарии испугало его – четырехэтажная громада из серого камня, с маленькими, забранными решетками, слепыми окошками показалась ему чем-то вроде тюрьмы, о которой рассказывал сосед Фарник, пугая его после очередной проказы…. И ещё больше напугала его калитка в глухой стене – железная, кое-где тронутая ржавчиной, с маленьким зарешеченным окошком. Бабушка постучала в неё, окошко открылось – после чего калитка, пронзительно заскрежетав, распахнулась. На пороге стоял сутулый, весь в чёрном, мужчина, с серым, каким-то неживым, лицом – таких лиц ему ещё никогда не доводилось видеть…
Это случилось в конце февраля… или в начале марта? Нет, точно, двадцать шестого или двадцать седьмого февраля; тогда как раз у Яна Браника – он погибнет в октябре сорок четвертого, у Бойницы; немецкий танк раздавит пулеметное гнездо, из которого он со своим вторым номером до самого последнего мгновения будет вести огонь по наступающим цепям эсэсовцев из дивизии «Галичина» – был день рождения. Их отпустили с уроков, и они, весёлой дружной гурьбой, мчались по набережной Нитры, бесшабашно размахивая портфелями; южный ветер с далёкого Дуная так кружил им головы! Потом, столпившись у трафики, они нетерпеливо ждали, пока Янек купит на всех лакричных тянучек, конфет и абрикосовой воды – и в этот момент он увидел ЕЁ…. Вернее сказать, сначала не увидел, а почувствовал – как будто его щеки коснулся солнечный лучик; только потом, через мгновение, показавшееся ему вечностью, он встретился взглядом с её глазами – и вдруг ощутил, как быстро забилось его сердце, а по спине пробежал какой-то непонятный озноб. Как же у него тогда закружилась голова!
Его приятели помчались дальше – а он всё стоял у трафики, глядел на её – и мучительно долго пытался сказать ей хотя бы пару слов; как же тяжко дались ему муки этой первой фразы! Он бессильно кусал губы от вдруг нахлынувшей нерешительности, мысленно проклинал свою робость…. А она смотрела на него, смущающегося, краснеющего, тяжело подбирающего слова – и шаловливые лучики от её глаз вгоняли его в ещё больший ступор; в конце концов, единственное, что он смог тогда выдавить из себя – «Барышня, а хотите конфету?»… сейчас об этом даже смешно вспоминать…. Смешно и грустно. Как же далеко в прошлом осталась его беззаботная юность!
В следующий раз они встретились через три дня – на том же месте, на набережной; и это была совсем не случайная встреча: он третий день подряд сбегал с уроков и бродил вдоль Нитры, в надежде увидеть Её.… И вот чудо произошло! Впрочем, оно и не могло не произойти – она, как выяснилось позже, тоже три дня подряд уходила днем из дому, каждый раз придумывая какие-то предлоги и не видя, как мать с отцом многозначительно улыбаются друг другу, слушая её сбивчивые рассказы про подругу, которой нужно помочь с латинским…
Анита – какое чудесное имя! Хотя совсем не словацкое…. Её отец был владельцем писчебумажного магазина на Штуровой, мать преподавала в женской гимназии на Купецкой, недалеко от площади Святоплука. Анита училась в этой гимназии, и мечтала после её окончания уехать в Прагу – правда, не совсем чётко понимая, чем будет заниматься в столице. Просто уехать в Прагу – а там всё будет просто замечательно…. Она рассказывала ему о своих планах – наивных и смешных; но тогда они ему совсем не казались наивными и смешными!
Целыми днями напролет они гуляли по городу, хмельные от своей любви, шальные от кружащего голову весеннего воздуха – и казалось им, что земной шар вращается вокруг них; Господи, как же счастливы они были те три недели, что подарила им судьба!
А сегодня он соберет свои вещи, сдаст учебники в библиотеку, попрощается с одноклассниками, скажет «прощайте, учитель!» пану Щетине, единственному наставнику, к которому он привязался всем сердцем, и с которым ему было по-настоящему жаль расставаться – и пойдет на вокзал, где сядет на поезд до Турзовки. И никогда, никогда, никогда больше в жизни не увидит Аниту…. Не услышит серебряных колокольчиков её смеха, не почувствует под рукой бесценного шёлка её волос, не коснется нежного бархата её кожи.… Никогда больше не испытает безумного восторга от поцелуя её губ! Она уедет в город своей мечты, сияющую огнями, шикарную и богатую Прагу – а ему уже сегодня вечером придется отправиться обратно в свои Кисуцы, в бедный и неприютный дом матери – где никто не будет его держать слишком долго: он уже взрослый, ему уже пятнадцать, в этом возрасте мужчине надлежит самому зарабатывать на хлеб!
Невыносимо тяжело осознавать, что больше никогда он не увидит бабушку. И дело даже не в том, что теперь ему придется тяжко без её помощи – ведь это на её деньги он учился в Нитре; тяжело будет просто потому, что уже не с кем будет поделиться своими сомнениями и тревогами – мама никогда не понимала его так, как понимала бабушка. А теперь её нет – и уже не будет никогда!
Бабушка…. Строго поджатые губы, цепкий изучающий взгляд – никогда ему не удавалось её провести! – чёрный платок у самых бровей; а ведь не было на земле человека, который любил бы его больше бабушки! И вот теперь её не стало….
В один день он потерял двух самых дорогих его сердцу людей – один ушёл навсегда за ту черту, из-за которой уже не возвращаются, а вторая…. Вторая мечтает о жизни в Праге – хотя её отец, слыша эти разговоры, лишь грустно улыбается. Какое может быть будущее у еврейской девушки в Праге – если само чехословацкое государство качается, как тополиный лист на осеннем ветру, и неизвестно, будет ли у него у самого хоть какое-то будущее? Да, в Праге, может быть, ещё надеются на сохранение единства страны – а вот из Нитры будущее единой Чехословакии кажется совсем не таким радужным. И ещё менее радужным кажется будущее чехословацкого еврейства – не зря уже второй год богатые братиславские евреи пакуют чемоданы, продают дома и магазины и потихоньку уезжают за океан – слишком уж мрачные вести приходят с Запада….. К тому же с каждым днём укрепляют свои позиции словацкие радикальные организации – хотя их вожди, Войцех Тука и его сподвижники, сидят в тюрьме; но разве уголовным преследованием можно решить политические проблемы? Арестами и судами можно лишь загнать проблему внутрь – но разве она от этого станет менее актуальной? А почва для вспышки яростного антисемитизма здесь удобрена на славу – не хуже, чем в Германии….
Да, в Нитре «Радобрана» особо не светится – не Мартин, да и запрещение на публичное появление в форме ещё действует; но и здесь по воскресеньям во многих пивных черным-черно от молодцев Андрея Глинки – известно, как относящихся к евреям. Отец Аниты старается обходить эти места за квартал – и всё равно время от времени удостаивается свирепого ненавидящего взгляда. Вряд ли эти молодчики ограничатся лишь взглядами – если вдруг окажутся у власти…. Да и в Судетах неспокойно – тамошние немцы пока только угрюмо ворчат, но партия Генлейна уже взяла курс на раскол страны…
Впрочем, тогда все эти пессимистические сетования отца Аниты проходили у него мимо ушей – до политических ли проблем было тогда ему, влюблённому мальчишке? Тогда вся эта мутная непонятная возня казалась ему сущей ерундой – этим старым болтунам (а старыми болтунами были тогда для него все, кому было больше двадцати пяти) просто больше нечем заняться – вот они и придумывают себе разные глупости, чтобы их обсуждать…
Очень скоро – не пройдёт и пяти лет! – политика властно возьмет его в свои стальные объятья; и, глядя на развал своей страны, на несчастья, которые обрушатся на его народ – он поймёт, что от политических разговоров в пивных до пулеметных очередей на улицах – на самом деле, совсем небольшая дистанция…
Чехословакия. Первая республика, 1918-1938 годы
Надо сказать, что в Версале Бенеш проявил завидную нахрапистость и беспредельную наглость – весьма, впрочем, импонировавшие политикам Антанты. Ведь «отчаянно смелый» чешский демократ изо всех сил пинал напрочь лишившегося к этому времени когтей и зубов, обезоруженного и связанного немецкого льва – каковой лев ещё недавно доводил французских политиков до смертельно холодного пота. Впрочем, требования Бенеша к Германии и Австрии выплатить «его» державе репарации, равно как и пожелания отдать Чехословакии в управление обе Силезии и Лужицкую землю (где чехами и не пахло!) – были Хозяевами мира мягко отвергнуты. Тем не менее, Чехословакия в тех границах, которые все же были ей нарезаны, получала изрядные куски со смешанным населением (чешско-немецким, чешско-польским или словацко-венгерским), на которых доля чехов или словаков иногда не превышала пяти процентов. Также к Чехословакии было присоединено Закарпатье (бывшее венгерским тысячу лет), получившее название «Подкарпатская Русь».
В итоге Чехословакия стала весьма многонациональным государством – 46 % её населения составляли чехи, 13 % – словаки, 28 % – немцы, 8 % – венгры, и по 3 % – украинцы и евреи. И уже с начала двадцатых годов в новорожденном государстве начались межнациональные распри – причем не только по линии раздела «славяне – не-славяне», но и между чешской и словацкой частью этого детища Антанты.
Разногласия эти были, увы, неизбежны. Это французам, англичанам и доверчивым американцам Бенеш с Масариком могли успешно втирать красивую сказку о единстве чехословацкого народа и о мизерной численности национальных меньшинств во вверенном им государстве; для собственно же населения Чехословакии эта байка никак не проходила – словаки, немцы и русины Закарпатья прекрасно понимали, что они отнюдь не чехи, и чехами становиться вовсе не желали – несмотря на старания официальной Праги. Но если недовольством немцев (ввиду их «вины» за развязывание Мировой войны) и русинов (ввиду их малочисленности и хронической нищеты) ещё можно было как-то пренебречь, то недовольство словаков выплескивалось весьма и весьма серьезными волнами.
Хотя по названию Чехословакия была «двуединым» государством, на деле, как говорил основатель словацкого правого национализма Андрей Глинка, это государство «являлось федеративным только по названию». Вся фактическая власть находилась в руках политиков из Праги – весьма болезненно реагировавших на любые автономистские поползновения. Политические, национальные и экономические права не только немцев, поляков или русинов, но даже словаков в «едином государстве чехословацкого народа» ущемлялись, они подвергались активным попыткам ассимиляции чешским большинством. Как ответ на чешское доминирование, в Словакии серьезной политической силой стала консервативно-клерикальная Словацкая народная партия (Slovenskа ludovа strana, кратко – «ludovcу», «народники»), существовавшая еще с австро-венгерских времен и пользовавшаяся поддержкой не менее половины словаков. Возглавлявший партию отец Глинка еще в 1920 г. охарактеризовал этот процесс так: «Мы готовы трудиться 24 часа в сутки ради того, чтобы наша страна превратилась из вассала масонской Чехословакии в свободную белую и христианскую Словакию».
Словацкие «народники» отнюдь не были «диванной» «партией любителей пива» – по инициативе профессора Войтеха Туки (бывшего в 1923-1929 годах генеральным секретарем партии) с 1923 года началось формирование партийной «милиции», носившей название «Rodobrana» («Народная защита») – к 1925 году насчитывавшей в своих рядах более пяти тысяч бойцов. На левом нагрудном кармане черных рубашек «народников» нашивался шестиконечный крест Святых Первоучителей славянских Кирилла и Мефодия – партия таким образом заявляла о своей приверженности традиционным ценностям.
Впрочем, особо долго щеголять в чёрных рубашках с крестом Прага народникам не позволила – уже в 1926 году властями было запрещено ношение партийной униформы, а после того, как это не «умиротворило» членов «Родобраны», в 1927 г. последовало ее полное запрещение. Тем не менее, эти репрессии отнюдь не сломили «народников» – на выборах в 1927 году они триумфально побеждают всех своих либерально-демократических оппонентов, после чего президент Масарик, скрепя зубами, вынужден был назначить из числа «народников» несколько министров. Впрочем, терпение «либерального» президента было недолгим – правый национализм и католический консерватизм Глинки и Тука был для масона Масарика ножом острым – и в 1929 году против профессора Туки, отличавшегося особенно радикальной риторикой, были сфабрикованы обвинения в заговоре против государства и шпионаже в пользу Венгрии. Он был приговорен к 15 годам тюрьмы. «Словацкие народники» под этим предлогом были лишены всех министерских портфелей, а партия де-факто выброшена из политического процесса. И именно с этого момента партия отца Глинки переходит в жесткую оппозицию Праге и провозглашает курс на достижение независимости Словакии.
Так что все обвинения послевоенных пропагандистов в адрес словацких «сепаратистов», якобы выпестованных Гитлером на погубу демократической и свободной Чехословакии и ничего общего с подлинными чаями словацкого народа не имевшими – увы, голословны и лживы, как и всякая иная либеральная пропаганда. Официальная Прага в двадцать девятом году сама сделала все возможное для того, чтобы основная политическая сила Словакии перешла на радикальные (сейчас они бы назывались «экстремистскими») позиции – напоминаю неверующим Фомам, что до прихода Гитлера к власти в Германии оставалось ещё четыре года…
?
Сегодня – ровно семь лет с того момента, когда он в последний раз встречался с Траяном; через полгода после той последней их встречи Траян пустил себе пулю в лоб – что ж, он сам выбрал свой путь, и шёл по нему, не сворачивая, до самой последней черты.… Двадцать девятого декабря пятьдесят третьего он эту черту перешагнул.
Для него всегда было загадкой – каковы же были подлинные политические взгляды Траяна? Когда верх брали клерикалы – он был клерикалом и ревностным почитателем монсеньора Тисо; когда чаша весов клонилась в сторону демократов – не было в Батяванах большего поклонника Бенеша, чем Траян; когда в силу вошли коммунисты – он стал самым ярым марксистом в Нитранском крае, но всё же тайно продолжал помогать демократам – так, на всякий случай…. И ведь нельзя сказать, что он был беспринципным негодяем – Траян очень много сделал для Батяван, для рабочих обувной фабрики, для крестьян окрестных деревень. Он просто хотел быть Главным – и ему было совсем не важно, под каким знаменем осуществлять свою мечту….
В мае сорок пятого Траян объявился в Батяванах – во главе своего собственного «партизанского отряда», всем и каждому рассказывая о своих «боевых заслугах» – хотя все в округе прекрасно знали, чем занимались его «партизаны» осенью сорок четвертого и всю зиму сорок пятого, до прихода румын генерала Толбухина. Сидели по высокогорным колыбам, браконьерничали и ждали, чья возьмёт! «Партизаны»…. Когда их бригада умывалась кровью в Раецкой долине – Траян со своими дружками сидел, как мышь под метлой, в горах, регулярно наведываясь в деревни вокруг Превидзы с «реквизициями». А когда Верхнюю Нитру заполонили колонны отступающих немцев и мадьяр – единственное, что делал его отряд – это грабил венгерские обозы с продовольствием и украденным в Банска-Быстрице барахлом….
В первые дни после освобождения «партизан» Траяна можно было очень легко различить среди всех остальных бойцов, спустившихся с гор – по шикарным хромовым сапогам, пошитым на обувной фабрике в Батяванах за счет казённых сумм, по молодецким каракулевым кубанкам, как у русских кавалеристов (кубанка была верхом партизанского шика, мало у кого из бойцов бригады Штефаника имелась такая роскошь), да по мундирам из английского сукна прекрасного оливкового цвета – также полученного с государственных складов. «Своих» Траян старался обиходить по максимуму…. Впрочем, в этом был весьма здравый практический смысл – за казённый кошт Траян получил полторы сотни преданных и верных горлопанов – а в послевоенной политической сумятице и неразберихе это позволило ему довольно быстро стать Главным в Батяванах и округе.
Но в пятьдесят первом звезда Траяна закатилась – в Братиславе начались процессы над его покровителями; в начале пятьдесят третьего года его сняли с должности директора фабрики, началось партийное следствие по его «подвигам» во время восстания и после него. Припомнили ему и загадочное убийство летом сорок пятого Золтана Реттеги и Августина Чеснохи – руководителей завода «Бати» в Батяванах; хотя следствие и не нашло доказательств прямого участия Траяна в этом преступлении, но выгодно оно было только ему…. Почти целый год комиссия партийного контроля допрашивала близких Траяну людей, членов его «партизанского» отряда – и, в конце концов, он не выдержал этого чудовищного психологического давления.
Траян всегда носил с собой небольшой полицейский «вальтер» – и двадцать девятого декабря пятьдесят третьего этот пистолет сослужил ему последнюю службу…
Шимонованы, 31 августа 1944 года
– Рудольф, не дури. Что ты забыл там, за Фатрой? Теперь твой дом здесь! Сегодня в Батяванах формируются три отряда – выбирай любой, я подпишу твоё назначение, не глядя!
Траян, облокотившись о край стола, наклонился к своему собеседнику – всем своим видом являя крайнее нетерпение вкупе с раздражением тем, что что-то идёт не так, как он задумал.
Яшик ответил – так сухо, как только мог, стараясь, чтобы в его голосе отчётливо слышалось решительное несогласие:
– У меня назначение.
Траян раздражённо махнул рукой.
– Какое, к чёрту, назначение? Сейчас в Быстрице выписывают сотни таких бумажек – и ты лучше меня знаешь им цену! Мне в двух отрядах нужны комиссары, у меня сейчас нет заместителя по политической части – а ты как раз подходишь на все эти должности, ты коммунист, опять же – молодой, но имеешь боевой опыт, воевал, понимаешь по-русски…. Тебя будут слушать рабочие. Оставайся!
Яшик покачал головой.
– Нет, Траян. Я не останусь здесь, под твоей командой. – Рудольф умышленно сделал ударение на слове «твоей» – чтобы чётко и однозначно расставить все точки над «i».
Его собеседник нахмурился.
– То есть ты хочешь сказать, что не доверяешь мне? Именно мне, Йожефу Траяну?