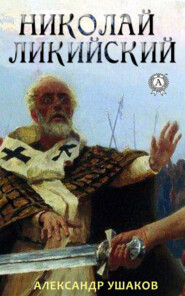По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ататюрк: особое предназначение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Надо полагать, что Кемаль не полаждил с кем-то из лидеров, поскольку ему сначала угрожали, а потом дважды (в 1909 и 1911 годах) его пытались убить.
После многих лет, проведенных в подполье, «Единение и прогресс», даже добившись власти, сохранил жесткие привычки подполья.
И его руководители безжалостно расправлялись со всеми неугодными.
Для своих темных дел они использовали профессилнальных убийц из секты федаев.
И если верить воспоминаниям Кемаля, то в течение нескольких недель федаи охотились за ним и даже стреляли в него.
Говоря откровенно, странные это были покушения.
Федаи всегда довдили дело до конца и никогда не промахивались, и Кемалю, если дело обстояло именно так, крупно повезло…
Тем не менее, Кемаль не спешил покидать ряды комитета, хотя и превратился в то время в обыкновенного наблюдателя.
Что же касается высших руководителей партии, то между ними и Кемалем лежапа огромная пропасть, и преодолеть ее он смог только в отношениях с Джемалем…
Глава V
Летом 1910 года с группой османских офицеров Кемаль был послан на учения французской армии в Пикардию.
И надо ли говорить, с какой радостью и интересом ехал он в даровавшую миру великую революцию страну!
Как только они переехали границу, он сменил феску на фуражку, и майор Саляхеттин недовольно заметил:
– Что ты делаешь? Разве ты забыл, что м представляем наше государство? И все должны видеть, что мы османы!
Кемаль только пожал плечами.
Но когда поезд остановился на одной из сербских станций и один из мальчишек заорал пронзительным голосом на весь перрон «чертов турок!», майор тут же достал из своего чемодана фуражку.
Кемаль с огромным интересом наблюдал за всем происходящим на полях Пикардии.
Но, увы, в империи снова обострилась обстановка, и вместе с военным министром Махмутом Шевкет-пашой его отправили на подавление восстания в Албании.
Шевкет-паша сдержал данное им в Стамбуле слово и со свойственной ему жестокостью принялся уничтожать бунтовщиков.
Сам Кемаль почти не принимал участия в боевых действиях и занимался в основном разведкой.
Албанцы получали оружие из пограничных с ними стран, и он был обязан перекрыть эти пути.
Говоря откровенно, он не был в восторге от своего участия в исполнении жандармских функций по подавлению восстания.
Ведь это был не просто бунт, а борьба двух идеологий: османизма, за который все еще цеплялись младотурки, и национализма нетурецких народов.
Более того, судя по его поведению в Сирии и дальнейшим высказываниям, Кемаль оказался в затруднительном положении: прогрессивно мыслящий человек, он был обязан самым жестоким образом подавлять ростки национального самосознания.
Да и чего особенного требовали албанцы?
Независимости?
Так это естественное стремление любого народа!
Развития своего собственного языка?
Так и здесь не было ничего удивительного, поскольку язык являлся неотъемлемой частью национальной культуры, и любой народ имел право говорить на своем собственном языке!
Да и в желании албанцев видеть на всех ключевых постах в управлении страной своих соотечественников тоже не было ничего странного.
И когда на званом обеде в Салониках немецкий полковник фон Андертен произнес здравицу в честь «великой Османской империи, сокрушившей сопротивление албанцев», Кемаль демонстративно поставил свой бокал с шампанским на стол.
– Турецкая армия, – заявил он, – выполняет свой долг, когда защищает страну от иностранной агрессии и освобождает нацию от фанатизма и интеллектуального рабства! К сожалению, турецкая нация намного отстает в своем развитии от Запада, и главной нашей целью является как можно быстрейшее вхождение в современную цивилизацию! И как турецкий офицер, я не могу гордиться подобными победами!
Все были шокированы его поведением, и особенно словом «турецкий», которое в Османской империи означало «невежественный».
Да и само слово «турок» служило не обозначением национальности, а употреблялось как ругательство.
Кемаль продолжал развивать свои идеи в кругу друзей и не раз заявлял о том, что вся сложность нынешнего положения Османской империи кроется в ее имперском мышлении и что в национальных движениях заложен глубокий исторический смысл.
Конечно, подобное понимание приходило к нему не только под влиянием всего увиденного им за эти годы.
Определенное влияние оказал на него и великий турецкий мыслитель того времени Зия Гёкальп.
Отдав неизбежную по тем временам дань османизму, он стал склоняться к тюркизму – турецкому национализму, который представлял у него уже не какое-то отвлеченное и чисто философское понятие, а реальное явление со своими традициями, фольклором, языком и всем тем, что формирует национальное сознание.
Конечно, он не изобрел ничего нового, и первыми о тюркизме заговорили жившие в России татары и узбеки.
Так, еще в 1904 году в газете «Тюрк», издававшейся в Каире, появилась статья Юсуфа Акчуры «Три вида политики».
В ней были названы три варианта выбора государственной идеологии, стоявшие перед османским государством – османизм, исламизм и тюркизм.
Османизм означал равенство родового происхождения, религий и учений во имя создания совместной родины.
Исламизм – это собирание всех мусульман мира в едином исламском союзе.
Что же касается тюркизма, то автор статьи считал, что «мысль о необходимости осуществлять национальную политику на расовой основе абсолютно нова и не существовала ранее ни в Османском государстве, ни в других тюркских государствах».
Выходец из России и татарин по национальности Акчура стал одним из лидеров течения тюркизма.
«Тюркский союз, – писал автор, – начинается с тюрок.
В этом большом сообществе самую главную роль будет играть Османское государство – наиболее сильное, наиболее передовое и цивилизованное из тюркских обществ».
Практически всеми исследователями его взгляды оцениваются как пантюркистские.
«Идею Туранизма, – отмечал Поултон, – унификацию всех тюркских народов от Балкан до Китая в единую страну, именуемую Туран – изначально можно заметить в идеях Акчуры.
Туранистское движение, которое в известной степени можно рассматривать как крайнее проявление этнического национализма, заявило о себе после младотурецкой революции и было привнесено эмигрантами из России».