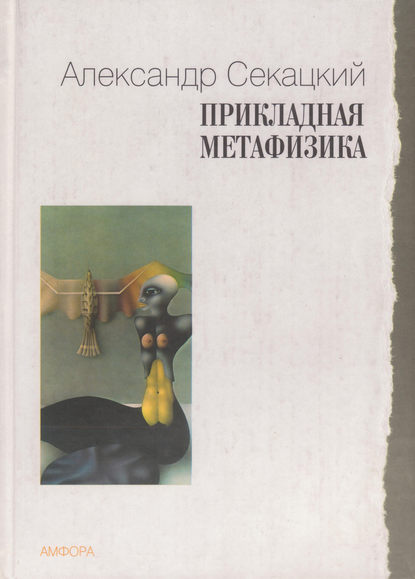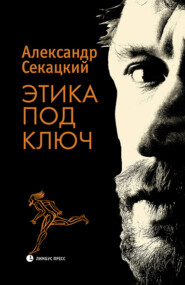По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Прикладная метафизика
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Здравый смысл не предполагает самостоятельного интереса к дисциплинарной философии. В компании соседей довольствуются тем, что носит имя философии, а для себя лелеют какую-нибудь сверхценную идею, один или несколько фиксов. Стандартное образование открывает возможность самостоятельного выборочного пользования философией, помимо той формы мудрости, которая обслуживает солидарные цеховые (территориальные) интересы. Потребляемая гомеопатическими дозами философия «для себя» заслуживает несколько более подробного рассмотрения. Она не имеет отношения к разысканию истины, поэтому ее точнее было бы назвать не метафизикой, а метафармакологией.
Мы привыкли различать состояния сознания прежде всего по их содержанию: решимость, самодостаточность, оптимизм, бесстрашие. Есть еще параметр длительности – одни состояния мимолетны, и мы называем их настроениями, другие задерживаются надолго или даже навсегда: их принято считать «свойствами», чертами характера.
Между тем состояния сознания можно классифицировать и по способу их достижения; более того, исследования в этом направлении приводят к весьма интересным результатам. Рассмотрим подробнее вытекающие отсюда возможности.
Вот два человека переживают аффект восторга: приподнятое настроение, чувство благосклонности мира к собственной персоне, приветливость, готовность передать свое ощущение другому. Но мы знаем, что первый субъект пришел к своему состоянию благодаря успешному завершению трудного дела или, например, посредством «приобщения к искусству», а второй получил то же самое в результате приема дозы мескалина. И хотя состояния отличаются друг от друга только способом их достижения (их нейрофизиологические и гормональные картины тождественны), первое мы считаем истинным, а второе – поддельным. Однако не так-то просто ответить на вопрос, почему счастье, создаваемое переменами в мире, приветствуется и порой объявляется целью человеческой жизни, а счастье, вызванное непосредственными химическими переменами в организме, расценивается как эрзац, подделка – притом сам способ достижения подобной эйфории рассматривается как незаконный.
Первый напрашивающийся аргумент состоит в том, что избрание фармакологического пути достижения желаемых состояний приводит к зависимости от препарата, ограничивая тем самым свободу человеческой воли. Но привычку к совершению «добрых дел» или к производству иных перемен в мире, вызывающих чувство удовлетворенности, нам как-то не приходит в голову назвать «пагубной зависимостью», хотя и здесь стремление к достижению желаемых состояний отличается явным характером навязчивости.
Трудность не устраняется, если мы скажем, что поддельными будут все измененные состояния сознания, не сопровождаемые переменами в мире. Во-первых, решение изменить мир само продиктовано определенным состоянием сознания, во-вторых – здесь, собственно, и начинается метафармакология.
В европейской традиции философия всегда понималась как метафизика. Не будем углубляться в исторические обстоятельства происхождения такого названия: смысл прост – философия есть то, что идет вслед за физикой. Европейская философия действительно пыталась «идти вслед», имитируя физическую причинность и взыскуя объективную истину. Однако это не единственно возможная траектория для философии: опыт средневекового Китая демонстрирует другой путь, куда более близкий к продолжению фармакологии, а не физики. Философствование разбивается на жанры, используемые для подкрепления или нейтрализации настроения. Например, чиновник, занимающий высокое место при дворе, является «естественным конфуцианцем», он читает «Беседы при ясной луне» и искренне культивирует ритуализованное соучастие в делах государства. Но вот судьба его меняется – чиновник сослан в далекую провинцию. И он совершенно естественным образом переходит к другой философии, находя утешение в даосском единении с природой. Воин, отправляющийся в поход, и путешественник, мирно плывущий по Янцзы, будут исповедовать совершенно различные философские принципы – даже если речь идет об одном и том же человеке.
Отсюда вытекает возможность понимания философии в инструментально-фармакологическом духе. Наркотическая эйфория возникает независимо от состояний окружающего мира – но философия, преднамеренно или попутно, способна добиться такого же эффекта. Нельзя, например, «вылечить от усталости», разочарования, исцелить от несправедливости, поскольку в данном случае «неладно что-то» в большом социальном теле человека – в обществе, а не в телесном устройстве индивида. Но философия предлагает желающему свой патент – «изменить себя», не обращая внимания на неподвластные окружающие обстоятельства, т. е. произвести коррекцию малого круга, перенастройку сознания.
Между философией и фармакологией обнаруживается далеко идущая общность принципа действия, подтвержденная и общностью этимологии: в конечном счете «лекарь» и «лектор» восходят к одному общему корню, равно как и слова «лекарство» и «лекция». В принципе инъекцию адреналина можно заменить инъекцией слова в какой-нибудь сильнодействующей форме и получить в результате желаемое «состояние сознания» – добиться временного улучшения, а при систематическом введении препарата – и стойкого расположения души. Жак Деррида предложил рассматривать философию как «фармакон» – своеобразную словесную микстуру, эффект воздействия которой определяется дозировкой и составом компонентов.
Из этой фармакологической аналогии можно извлечь много интересных следствий. Например, можно сопоставить философские направления с различными типами психотропных препаратов, и тогда получится следующая картина:
1) Группа анестезаторов. Сюда относится философия стоиков и ее производные, некоторые виды пиетизма. Фармакон такого рода действует на манер новокаина, устраняя боль от соприкосновения с грубой реальностью. Заодно подвергается анестезии и избыток чувствительности как таковой.
2) Группа релаксантов. Принцип действия – расслабление, выход из-под пресса времени, из мучительных ситуаций ожидания и спешки. Метафизическое избегание «неудобных поз», искусство останавливать и ценить мгновение.
Примерный состав: эпикурейство, философская поэзия Китая и Японии, легкий скептицизм в духе Монтеня.
3) Группа стимуляторов и антидепрессантов. Фармакон рассчитан на самое массовое применение – общедоступен, не имеет противопоказаний в виде образовательного ценза. Сюда можно отнести догматическое богословие (без еретических и сектантских крайностей), французский материализм XVIII века. Принцип действия – частичное сужение поля зрения, благодаря чему оставшаяся часть спектра преподносит мир преимущественно в «розовом цвете». Систематический прием препарата является источником умеренного оптимизма.
4) Анаболики или допинги. Их основное предназначение – «наращивание мышц», формирование активной жизненной позиции по отношению к миру. При частом приеме могут давать побочные последствия в виде легкого отупения. Характерными представителями этой группы могут служить марксизм и прагматизм.
5) Галлюциногены. Весьма многочисленная группа с наибольшим индивидуальным разбросом. Мистика, визионерство, специальная литература, сопровождающая психоделику. Философские инъекции препаратов этой группы часто дополняются приемом химических психотропных средств для усиления взаимного действия.
Наконец, можно выделить еще одну группу, не имеющую прямой фармакологической аналогии:
6) «Охмурянты» – препараты, не создающие привыкания и принимаемые индивидом как бы помимо своей воли, просто из-за привычки проглатывать любую упаковку с надписью «философия». В качестве примера можно назвать софистику, преднамеренный парадоксализм вроде книг Ж.-Ж.Руссо, в некоторой степени – психоанализ. Большое количество охмурянтов синтезировано современным постмодернизмом.
Предложенная классификация имеет смысл прежде всего по отношению к общим компонентам или философемам, которые в принципе можно выделить в составе любого философского текста. Ясно, что вклад каждого отдельного мыслителя содержит комбинацию практически всех философий, смешанных в различных пропорциях, поэтому отнесение к определенному направлению осуществляется обычно в зависимости от преобладающего компонента. Вообще-то неофициальное сравнение философии с походной аптечкой является обычным делом. От студентов философского факультета нередко можно услышать характерное признание: «Что-то меня на экзистенциализм потянуло» или: «Ницше сейчас не идет, настрой не тот, хочется чего-нибудь поспокойнее: вот читаю Аристотеля по страничке в день…» Профессионал как раз и отличается знанием рецептуры, обычно же человек случайно натыкается на нужный ему фармакон. Пока еще не принято снабжать книги метафармакологической пометкой, чем-нибудь вроде:
«Rp. Препарат общеанестизирующего действия, легко усваивается при средней степени начитанности. Хорошо утоляет духовную жажду. Эффективный транквилизатор при всех неурядицах в личной жизни. Противопоказания: стремление сделать карьеру».
Пока нам известны лишь единичные примеры, когда ожидаемое состояние сознания сообщается открытым текстом. Так, Боэций, «последний римлянин», назвал свой трактат «Утешение философией».
В рамках метафармакологического подхода можно с успехом применять и другие понятия: резистентность, иммунитет, передозировка, абстиненция… Можно говорить о составлении микстуры индивидуального воздействия, чем и занимается хороший наставник по отношению к ученику. Наконец, нельзя забывать, что, среди прочих разнородных компонентов, во всякой микстуре содержится та или иная доза истины.
10. Изучение пароля
Столкнувшись с употреблением философии как стимулирующего или успокоительного средства, путешественник может вести параллельное исследование. Что, например, происходит с дисциплинарной философией, когда ее применяют для внутреннего использования? Каков здесь уровень стереотипности и каким образом обеспечивается доступ к внутреннему миру индивида?
Исследование в этом направлении больше всего напоминает работу разведчика: узнать (угадать) пароль, пользуясь им пройти через контрольно-пропускные пункты сознания, сфотографировать или хотя бы срисовать «план местности», наконец, отследить присутствие и роль философии, раз уж изучение ее причудливого инобытия является главной целью путешествия вообще.
Извне границы индивидуальности обозначены достаточно четко. Они в основном совпадают с контурами тела, благодаря чему минимальной индивидуальностью обладает уже первый встречный. Поскольку индивидуальность как персона (в отличие от экземплярности вещей) окончательно устанавливается дополнительным вопросом «кто именно?», к телесности жестко прикрепляется имя. Оно зафиксировано в удостоверениях личности вместе с другими важными пометками для быстрой идентификации извне. Точечная идентификация, применяемая для обозначения первых встречных, дополняется ежедневным подтверждением узнавания – эту важнейшую функцию без всякого затруднения для себя осуществляют коллеги, соседи и близкие.
Однако удостоверение (удостоверивание) личности изнутри происходит иначе. Более того, способ, которым Я существует для себя, настолько отличается от внешнего определения индивидуальности, что ощущение собственной непонятости остается неустранимым. Конечно, привычка откликаться на имя и предъявлять удостоверение рано или поздно приобретается (и во многих случаях облегчает задачу бытия в мире), но удивление по поводу того, что все это в очередной раз приняли за чистую монету, не проходит. Причем степень взаимного непонимания здесь даже больше, чем между философией и здравым смыслом.
Например, автобиография, которая определяет непрерывность самотождественности. Изнутри автобиография подвержена изменениям, точка отсчета непрерывности самосознания не фиксирована раз и навсегда. Но автобиографическое единство (даже оно) строго корректируется подтверждаемостью воспоминаний извне: мир почему-то настаивает на том, что я один и тот же – в детстве, на телеэкране, в измененном состоянии сознания… Я-то сам в этом не слишком уверен, но другие не выказывают ни малейших сомнений: это ты. И вот я смотрю на старую фотографию, где стоит мальчик в коротких штанишках, и говорю: это я. Говоря это, я даже не задумываюсь, какое в действительности отношение ко мне имеет этот мальчик. Я просто выполняю всеобщую конвенцию, которая действует по умолчанию, но является еще более эффективной, чем любая форма общественного договора.
Так же обстоит дело и с характером. Классифицируя встречные индивидуальности и стремясь добиться полноты классификации, принято наделять эти объекты характером. Это действительно удобно, мало кто усомнится, что знание характера способствует экономии усилий в горизонте повседневности; непонятно лишь одно: я-то тут при чем? «Обладание характером» не подтверждено изнутри никакой достоверностью, но приходится соглашаться и с этим. Но если уж я признаю в качестве своей принадлежности некий насильственно приписываемый мне характер, то узнать себя в зодиакальном гороскопе проще простого. Знаки Зодиака проникают в сферу самопрезентации еще и потому, что они более вариативны, чем черты характера. Отсюда большая достоверность принадлежности к Львам или Скорпионам, чем к флегматикам или, скажем, астеникам. Свободно проходят через границу и денежные знаки. Будучи универсальными определителями объектов внешнего мира, деньги формируют альтернативный, но весьма внятный алфавит воображения. Язык денег прекрасно работает и в сфере самооценки, различия с внешним оцениванием здесь сводятся в основном к несопоставимости сумм. Иными словами, если наделение меня характером или принудительным биографическим единством можно объяснить лишь полным непониманием со стороны мира моего сокровенного, то выраженная извне денежная стоимость говорит всего лишь о чудовищной недооценке моей индивидуальности. Тут, в принципе, мы могли бы договориться без переводчика – и даже есть люди, которые меня действительно ценят: они, во всяком случае, встречаются значительно чаще, чем те, которые меня понимают.
Знаки Зодиака и денежные знаки, таким образом, являются элементами внутренней философии. С ними легко уживаются метафармакологические заимствования из признанной (дисциплинарной) философии, хотя такие вкрапления вполне могут быть синтезированы и самостоятельно, без обращения к опубликованному опыту мудрости и мудрствования. Субъект, который духовной жаждою томим, нередко слоняется в греческом зале, неудивительно, что именно там и берет его на заметку наш внимательный путешественник, топограф духовных миров, привыкший отслеживать иноприсутствие философии в самых неожиданных контекстах.
Странник-номад замечает, что элементы внутренней философии связаны паролем, отнюдь не совпадающим с языком, на котором принято общаться в соответствующей духовной провинции. И чем дальше он удаляется от компании философствующих соседей, тем больше несовпадений обнаруживает.
Невидимые опоры внутреннего мира, поддерживающие «индивидуальность для себя», напоминают уже встречавшиеся сверхценные идеи, по крайней мере с точки зрения пропасти между их величайшей значимостью изнутри и крайней незначительностью для другого. Существенное различие состоит в том, что эти лелеемые идеи складываются в песенку катающегося внутри Колобка и тщательно скрываются от посторонних. Путешественник может назвать их контрфиксами.
В принципе, человечество прекрасно осведомлено о наличии контрфиксов, чувствительных струнок души, которых лучше не задевать в разговоре. Любое неосторожное касание мучительно. Конечно, вычислить контрфикс крайне сложно («Сыграйте лучше на флейте», – говорит Гамлет), но возможность случайного попадания не исключена. Поэтому в мире рутинного общения принимаются меры чрезвычайной предосторожности, соблюдение этих мер именуют тактичностью и деликатностью, но по существу речь идет об основах самой культуры, о том, что делает человека культурным.
В доме повешенного не говорят о веревке, с женщиной не говорят о ее возрасте. С евреем, генералом, дезертиром, импотентом – с каждым есть о чем не говорить. При этом запретную зону следует определять на лету, желательно даже не приближаясь к границе (не допуская и невольного намека). В сущности, приемлемый светский разговор – это сухой остаток, образующийся в результате вычитания всего того, о чем нельзя говорить. И наоборот, некультурный человек (какое бы образование он ни получил) есть тот, кто не справляется с действием вычитания и способен в любой момент нарушить конвенцию.
Соблюдаемые предосторожности задают общий фон тактичности, но они отнюдь не гарантируют от случайных (и тем не менее очень болезненных) касаний контрфикса. Возникает нечто вроде паники, похожей на ту, что охватывает туземца архаического племени, когда другому становится известно его тайное имя. Ибо контрфикс – это важнейшая составляющая внутренней формулы Я.Наряду с присутствием сознания собственной уникальной миссии, поддерживающей естественную манию величия и прорывающейся наружу в виде фиксов, единственность Я опирается еще и на маленькую постыдную тайну, на зашифрованную цепочку контрфиксов. Нормальный живой человек живет в мерцающем режиме абсолютного перепада полярностей: от предопределенности к спасению и персональной избранности до ощущения себя чудовищем, которому не место среди людей.
Оба полюса не только равноответственны за уникальность Я, но по-своему одинаково дороги индивиду. Всякое подтверждение чрезвычайной особой миссии, безусловно, вдохновляет – поиск подобных подтверждений идет безостановочно и, по мнению Макса Вебера, лежит в основе духовной формулы предпринимательства. Культура лести, органическая составляющая любой культуры, строится на учете данного обстоятельства, и стратегия всегда успешно срабатывает, несмотря на ее, казалось бы, полную прозрачность для мира. Признанности фикса время от времени удается добиться даже простому смертному – что уж говорить о сильных мира сего. А вот доступ к контрфиксу, приоткрывание маленькой постыдной тайны в особом режиме, не разрушающем одновременную признанность миссии, – награда весьма редкая и относящаяся к категории сладчайшего.
Здесь уместно вспомнить героя романа Апдайка «Кентавр», мучительно переживавшего свой псориаз и столь же мучительно желавшего, чтобы его полюбили именно за эти переживания…
Впрочем, не всякий путешественник отважится на тщательное обследование островков внутренней философии. Затраты времени слишком велики, и перемещаться вдоль изрезанного побережья приходится на хрупкой лодочке – тут нужен своеобразный вкус, если угодно, особое устройство органа любознательности. Удовлетворить общее любопытство, жажду новых впечатлений можно довольно быстро. Скоро становится ясно, что к ларчику внутреннего мира в принципе имеется философский ключик. Далее выясняется, что заготовку для такого ключика раздобыть легко, а вот проделать филигранную работу индивидуальной подгонки, наоборот, чрезвычайно трудно.
Типовые образцы заготовок можно приобрести на основе знакомства с метафармакологией и общими правилами предосторожности. Рычаг отмычки складывается из правильных умолчаний и умения не замечать встречной бестактности. Подгонка «бородки» уже требует разведки контрфиксов, и быстрое попадание дает шанс бесшумного взлома внутреннего мира. В качестве примера сошлюсь на сообщение моего приятеля Владимира Юмангулова, неутомимого покорителя женских сердец:
«У этой Лили я скоро нашел струнку, на которой очень даже неплохо сыграл. Ножки у нее вообще-то были стройными, но, между нами говоря, волосатыми. Этим-то я и воспользовался: стал убеждать ее, что мужчины, на самом деле, испытывают тайную страсть к едва заметным женским усикам и волосикам на ногах. Во всяком случае, это именно то, что в моем вкусе. Я никогда не уставал напоминать ей об этом: какой чудный пушок… персик… эротичная шерстка… Ну вот, так я овладел ее сердцем, и не только сердцем. И все у нас получилось».
Примерно так открывается персональный ларчик. Разумеется, чтобы нащупать слабое звено, никакой сверхсообразительности в данном случае не требовалось, не требовалось здесь и какой-то особой философской умудренности. Мастерство притворщика состояло здесь совсем в другом – в том, чтобы перевести слабинку из режима умолчания (фонового режима приемлемости, отличающего культурных, «чутких» людей) в особый режим легитимации контр-фикса. Или, иными словами, сделать из говна конфетку.
Искусство обольщения, связанное с безопасным (щадящим) приближением к сфере маленьких постыдных тайн, трудно назвать эксклюзивным. Оно формируется спонтанно по мере приобретения так называемого «жизненного опыта» и в качестве стратегии соблазнения чаще и эффективнее применяется как раз женщинами. Дисциплинарная философия лишь сокращает время, необходимое для ориентирования в акватории внутренней философии. И все же работу в режиме легитимации контрфикса легкой не назовешь. Как правило, дело ограничивается приблизительной подгонкой заготовки. Изготовление собственно магического ключа, бесшумно входящего в скважину, остается на долю одиноких любителей (преимущественно любителей отнюдь не замочной скважины).
В сущности, для исследователя сфер иноприсутствия философии универсальной отмычки вполне достаточно. Эта приблизительная отмычка не откроет ларчик внутреннего мира как на блюдечке, но даст представление о том, как ларчик открывается. Если универсальную заготовку слегка повернуть в сквозном проеме крепостных ворот, раздастся приятная музыка персональной благосклонности. Это достойный трофей – пусть он займет место рядом с другими. Рядом с коллекцией фиксов, рядом с полезными приятельскими связями, обретенными в компании философствующих соседей. Рядом с дипломом «истинного интеллигента», полученным в греческом зале и висящим над кроватью. Впереди еще ждут новые провинции преломленной философии.
Впрочем, есть смысл немного задержаться в зоне контактов первой степени. Номадическое любопытство не угасает здесь по мере его удовлетворения, как это происходило на протяжении всей дистанции пути. Шанс обладания индивидуальным ключиком сам по себе заманчив; он обеспечивает доступ к трепетной душе Другого и ко всему тому, что к ней прилагается. Проблема в том, что синтез пароля, являющийся квинтэссенцией высокого притворства, не просто требует времени: время успешной имитации здесь впервые сопоставимо со временем собственно познания. Возникает дилемма: или пуд соли съесть, или уйти не солоно хлебавши. Дилемму, конечно, можно обойти на высоких номадических скоростях, но все равно мало не покажется.
Поэтому по сумме затрат получается одинаково, познать ли трансцендентального Канта или эмпирического Сидорова. «Критика чистого разума» и трепетная душа Сидорова предстают в качестве равноценных трофеев искусства высокой имитации; нет ничего удивительного, что большинство взыскующих предпочтут (и предпочитают) первое. Большинство, но не все.
Шпионологическое измерение философии, ведущее свое начало от Декарта, занимается неустанным совершенствованием болванок. Удалось подобрать целый ряд приличных отмычек к трансперсональным ипостасям субъекта: исследованы и описаны Я-мыслящее, Я-алчущее, Я-признаваемое и даже абсолютное Я. Но трепещущее внутреннее эго уходит подобно Колобку, напевая печальную, никому не слышимую песенку с торжествующим припевом, который может услышать любой преследователь. Круговая оборона от мира позволяет скатываться отовсюду, стигматы индивидуальности не дают рассыпаться неповторимому сочетанию элементов. Какова на вкус начинка, не дано узнать ни пророку, ни наставнику-гуру, будь он хоть трижды великим чумакователем. Дано только шпиону, владеющему всеми приемами конспирации и уже имеющему вкус к дегустации начинок.
11. Попутные соображения
Попутные соображения записаны на полях Путеводителя, целенаправленно ориентированный читатель может пропустить эту главку или бегло просмотреть ее – основная канва изложения при этом не пострадает.
Удивительное открытие контр-фиксов, поджидающее каждого внимательного исследователя внутренней философии, наверняка вызовет азарт и желание самостоятельно разобраться в интимной карте индивидуальности. Многое в открывшейся картине имеет сходство с опытом Фрейда. Вспомним, что создатель психоанализа писал об искусстве дознания:
«Если пациент охотно соглашается с вашим выводом, выражает восхищение вашей проницательностью, компетентностью, умом – значит, вы и близко не подошли к реальной проблеме. Напротив, если он начинает возмущаться, уходить от ответов, угрожает прервать анализ, – вы, возможно, на верном пути. Возникшее сопротивление пациента есть первый признак приближения к цели анализа. Следует вообще заметить, что пациент гораздо охотнее признается в вымышленных грехах и мерзостях, – притом куда более экстравагантных, – чем в действительной причине, приведшей к неврозу» («Лекции по введению в психоанализ»).