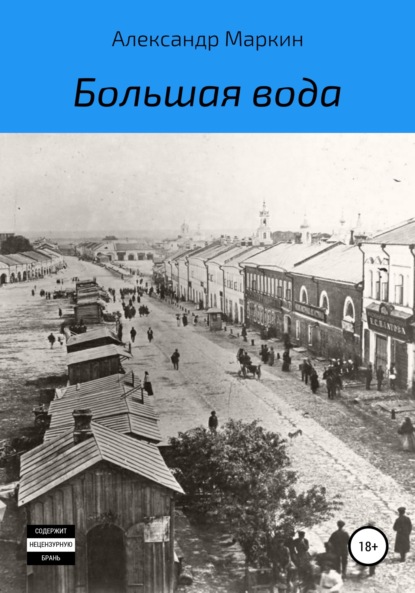По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Большая вода
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Кто его господин? Конечно – это любовь! Кто его любовь? Да, та самая, что живёт в доме напротив. С улыбкой, способной растопить ледяную шапку Северного полюса, с волосами, блестящими на солнце гораздо ярче золота.
Он никогда не заходил в барский дом без приглашения, но сегодня именно такой день.
Быстро выйдя из комнаты, он поспешил найти Дарью. Не зная, что он будет ей говорить при встрече, и надо ли что-то говорить, не думая о том, с каким настроением она на него посмотрит, но с мыслью о том, что он для нее чужой человек.
***
Степан Матвеевич пребывал в полной готовности излить кому-нибудь из прислуги свою заготовленную, хорошо придуманную речь, но на первом этаже стояла гробовая тишина, и удивленный этим обстоятельством со скрипом начал своё восхождение по лестнице, ведущей на второй этаж.
Тут он услышал чьи-то шаги, но не мог решить, откуда именно они доносились, казалось, они были совсем рядом. Приказчик поднялся по лестнице своеобразно разделяющей дом на две половины и увидел открытое окно перед собой. «Кажется, здесь действительно кто-то есть», – подумал он. Он оглянулся вправо и влево – никого не было, и как будто всё действительно смолкло, даже механический, четко выверенный звук часов утих прямо под ним на первом этаже.
Повернув направо, он вошёл в гостиную, в которой также никого не оказалось, и был идеальный порядок. Эта комната была проходной и вела в кабинет. Немного постояв на месте и о чем-то задумавшись, он прошёлся вдоль и поперёк гостиной, и вновь раздался какой то шум или звук, похожий на шаги. Шаги были мягкими, кажется, женскими, и Степан Матвеевич сладко улыбнулся.
Он догадывался, что и в кабинете никого нет, но появление его одного в барском кабинете полностью скомпрометировало бы его присутствие в доме, и он приложил ухо к двери. Слушая внимательно, он ничего не слышал кроме тишины. Легонько постучавшись и выждав паузу, он отворил дверь.
Перед ним был тот самый комод. Конечно, Карасёвы ещё не вернулись, те деньги, ради которых затевалось предприятие, сейчас у них на руках. И он это выяснил и может возвращаться обратно. Но здесь ни души, и почему бы не проверить правдивы ли слова Анфисы, настолько щедро вознаграждённой ими.
Вспоминая как заклинание то, что рассказала в тот вечер горничная, Степан Матвеевич начал двигать ящики. Взявшись за один из них, он осёкся: «Да нет же, самый правый… верхний, вот он». Потянул за него и вытащил целиком наружу.
«Кто здесь?»
Приказчик услышал эти слова и осознал их, однако они растворились в его мыслях, словно это было не с ним, а происходило где-то далеко или в чьём-то чужом рассказе, но чуть погодя понял, что случилось, и обернулся.
В дверях стояла кухарка, называемая в доме Семёнихой или Семёновной. Степан Матвеевич хорошо знал её, вероятно, это были её шаги.
«Cтепан Матвеевич…» – с удивлением произнесла она, расплывшись в добродушной улыбке. «Куда это вы пропали? Вас все ищут?! Ох, уж и достанется вам, голубчик, от Карасёвых, когда они приедут!
«Знаете те ли, обстоятельства, грешен, загулял, что-то я. Остановиться не мог, в рот капля попала, а дальше всё: пиши пропало, – виновато отчитался приказчик, – пришёл покаяться перед хозяевами за то, что запил… А их и нет…»
«Да, хозяева сегодня должны вернуться, а вы-то как к нам, на лодке что ли? Уж, по-другому никак. Сегодня и лавку закрыли вашу… Слава Богу, вода до неё ещё не добралась. Сколько добра там всякого…»
Взгляд скользнул о выдвинутый напрочь ящичек гамбсовского бюро. Степан Матвеевич заметил, как кухарка неприятно изменилась в лице. Она посмотрела на него теперь насторожено.
«А что вы здесь делаете, в кабинете-то? Как будто ищите что-то?»
«Да, знаете, дело одно есть, кое-что попросили найти…»
Степан Матвеевич нагнулся за ящиком, поставленным до этого на пол, с мыслью прибрать его и, возможно, выйти сухим из воды, но тут что-то тяжёлое брякнуло о паркет. Это был его револьвер.
Семёновна, баба лет 50-ти, полноватая, при виде револьвера рядом с собой закричала своим инфантильным комедийным голосом.
«Надо решаться», – быстро смекнул Степан Матвеевич, подобрал револьвер и наставил его на кухарку.
Оторопевшая, застигнутая врасплох Семениха встала как вкопанная, до конца не понимая, что происходит, она сверлила взглядом сжатый в руке наган.
***
Бальтазар сделал круг по первому этажу барского дома, внимательно вслушиваясь в каждый звук, в ожидании, что вот-вот кто-то выйдет из комнат, но они были либо заперты, либо приоткрыты до такой степени, что отсутствие жизни в них было совершенно наглядно.
Его непрочные ботинки быстро намокли во дворе, где воды было уже более, чем по щиколотку.
Он заметил, как они оставляют следы на полу и вместе с тем увидел, что рядом были и другие следы от большеногих мужских сапог.
Бальтазар поднялся по лестнице, ветер играл раскрытым настежь окном, которое с неприятным звуком ударялось о раму. Он закрыл окно и стал прислушиваться.
Он услышал только биение своего сердца. Двери в гостиную были открыты. В ней никого не оказалось, но всё более отчетливыми были голоса за стеной. Один сипловатый прокуренный бас и тонкий женский голос, но уже немолодой. Мгновение погодя, что-то с тяжестью брякнуло о паркет. Бальтазар не знал, что скрывает эта стена, но знал, что Карасёвых ещё в доме нет.
«Добро пожаловать, господин полоумное имя, фигляр и никчёмный работник. Должно быть, дочку купеческую пришли спасти от ненастья, а может, и ещё чего… а?»
«Стой, дура старая, на месте. А ты, недоношенный, – он перевёл пистолет на Бальтазара, – лапки подымай вверх, только со всею аккуратностью подымай!»
Бальтазар смотрел на представшую пред ним сцену с глубоким равнодушием. Ничего в нём не дрогнуло, ни мускул, ни сердце, ни рука. Он видел это так, как будто с ним это случалось уже тысячу раз, кто-то тысячу раз подряд наводил на него оружие и стрелял в него, и он умирал и всё заново.
«Ну, чего такое, что застыл, милейший? Или прибить тебя прямо здесь?!»
Осанисто, не колеблясь, держа руки там, где держал, Бальтазар прошёлся по кабинету из одного угла в другой, находясь под прицелом, совершенно забывшего о кухарке, приказчика. Теперь он встал между ними, прикрывая обомлевшую от последних событий Семёновну.
Послышались шаги на лестнице, ноги, топая, быстро шли, кто-то явно спешил и чуть ли не перепрыгивал со ступеньки на ступеньку. Ему показалось, что это не один человек, и сейчас сюда ворвутся. Резкая и тупая боль в голове помешала дальнейшим мыслям, потемнело в глазах перед тем, как всё провалилось в тёмный призрачный лабиринт.
***
Никогда прежде на церковной службе она не чувствовала такого полёта души, такого спокойствия и умиротворения. Обычно через половину часа как-то сильно томило, было скучно, а запахи ладана и горячего воска словно душили её. Сегодня утром, когда читали Царские Часы, было совсем не так. Что-то восторженно прекрасное, милое сердцу было здесь и сейчас.
Ближе к моменту, когда по ходу богослужения совершается вынос плащаницы, на душе у барышни стали появляться червоточенки.
Сквозь пение церковного хора, где-то рядом с собственной молитвой, было натужное чувство тревоги. Она перестала следить за происходящим, отвлекалась и думала о своём. Дарья вспомнила слова нищего на паперти, и после этого они не выходили из её головы.
Минуту-другую погодя она вылетела из церкви с желанием найти этого человека. Собравшийся там с утра народ сильно поредел, видимо отправились к другому приходу. Нищего, который был ей нужен, среди них не было.
Вернувшись во внутрь и встретив недоумевающий взгляд своего провожатого, она оставила ещё один рубль в церковной лавке и взяла три свечи: одну из них она зажгла и поставила в канун, другую перед богородицей, а с третьей мерным и медлительным шагом, боясь её потушить, вышла наружу.
Спохватившись, конюх вышел за ней. Дождя на улице не было, ветер совсем стих, и Дарья мысленно молила Бога за это.
Свеча в руке, с таким старанием и вниманием укрываемая от ветра, удивила Игната, её озабоченное, по-детски милое лицо, тревога и грусть в нежном и кротком взгляде заставили его не задавать вопросов. Он помог забраться барышне в лодку и отплыть в направлении дома.
Проплыв несколько десятков метров они заметили, что серое низкое небо перестало быть таким. За часы, проведенные ими в храме, оно расслоилось и теперь состояло из отдельных темно-синих туч, пунцовых, налитых, созревших и готовых упасть на землю.
Сквозь них, как маленькие ростки зелени, пробивающиеся между камней брусчатки, появлялись лучи солнца.
Вода стремительно прибывала, вымывала вещи из открытых подвалов на улицу и уже хозяйничала на первых этажах домов. Жителей, сидевших на крышах, стало больше в разы. Они смотрели на проплывавших мимо. Завидев хорошо знакомую им купеческую дочь, одной рукой держащей свечу, а другой – заботливо укрывающей её от ветра, словно драгоценность, они ломили шапки и крестились.
***
Открыв глаза, Бальтазар почувствовал тупую боль, от которой изнывала его голова. Сейчас он лежал на полу, в помещении, больше походившем на подвал, в этом месте он ни разу не был, оно было ему незнакомо. Его руки за спиной были чем-то связаны, и от этого сильно тянуло и резало запястья. Пол был мокрым, и, по сути, половина его головы и туловища находились в воде так, что если он переворачивался и лежал на боку, то одно или другое ухо оказывалось полностью в воде, которая, попадая внутрь, частично его оглушала, как при купании.
Две пары ног, а может быть три, были в ближайшем его обозрении, он видел грубые сапоги и модные высокие ботинки, и еще, кажется, сапоги.
Потихоньку он начал разбирать слова, которые доносились до него по началу с искажением.