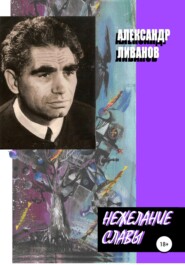По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
У быстро текущей реки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Че-го-о? – нет, вконец, меня удивляли москвичи. Это надо! Думать о немцах, когда мы совсем почти рядом с кухней. Когда так хорошо припахивает дымком пшенная каша!
– Если они не дураки, – а они не дураки в этом деле – они теперь меняют позиции… По меньшей мере будут перетаскивать минометы… Чего же ждет наша артиллерия? Зачем тогда в блиндаже штабном стереотруба? Зачем мы так вяло шли на высотку? Разве не смекнул немец, что это – разведка боем, что нам нужно засечь их огневые точки, не обнаружив своих? Эх, артиллеристы, артиллеристы – смелее в бой!.. Глотки драть да песни горланить все горазды…
И вдруг над головой что-то сухо и стремительно рванулось, воздух упруго зазвенел, уносясь вперед нарастающим гулом. И тут же еще, еще! Кто-то рванет огромное полотнище – и – у-у-у!..
– А, голубцы, услышали мою команду! Не дали фрицам поменять позиции и запудрить нам мозги! Бросай бревно!.. Что на кухню уставился – она не наша! Бегом на пункт сбора! Артподготовка – судя по всему это сто двадцать второй калибр! – двадцать-тридцать снарядов, через силу… Беглым огнем… Обработают передний край – и мы пойдем в атаку уже по-настоящему!
Я только водил глазами по Катаеву. Можно было подумать, что именно он направляет отсюда все боевые действия на «вверенном ему участке фронта». Нет никаких штабов в блиндажах, нет командиров – все-все он, младший сержант Катаев, моторист бывшей второй эскадрильи вдруг обернулся пехотинским генералом, нет, стратегом!.. И опять – протянута вперед рука с двумя указательными пальцами – бледно-голубоватые глазки вперив в меня:
– Бе-го-ом… Ма-а-р-ш!.. Уже пятнадцатый снаряд ухнул!
…Мы успели на огневой рубеж, как раз перед атакой. Это была настоящая атака – и мы взяли высотку.
Вскоре нас, «авиаторов», вернули в авиаполки…
Неисповедимы пути – не господни – человеческие. Думал ли, гадал ли, что еще раз встречу младшего сержанта, моториста Катаева? Да и как бы я его узнал спустя сорок лет, если бы не этот перст стратега «с двумя указательными перстами»?..
– Кирпич выгружайте там! А блоки – там! – и прораб, не удостоив взглядом ни одно «там» – внимательно изучал лица шоферов: поняли они. – Как надо?
Они поняли все, как надо. «МАЗы» заревели, обдали меня черным выхлопом, и рванули вперед.
– А бревно – куда? – тихо спросил я позади прораба.
– Какое еще бревно? – резко обернулся прораб.
Я не спешил с объяснениями. Осмотрелся, окинул глазами большую строительную площадку. Все было изрыто – как иногда лишь бывает на войне, после танковой атаки. В огромном котловане, точно ожесточась, бил по сваям дизельный копёр… Сновали по рельсам краны, трещали лебедки, грохотали барабаны смесителей… Москва готовилась к Олимпиаде – строился какой-то большой спортивный комплекс.
В мои годы – не до спорта, не до рекордов. И все же я испытывал чувство гордости за страну, за народ свой. Нужен спортивный комплекс, – что ж, будет! Построим!.. Эта спокойная уверенность в своей силе чувствовалась и здесь, и мне именно эта уверенность – а не само по себе строящееся сооружение – была по душе.
– Вы кто такой, товарищ? И о каком вы бревне?..
– О стратегическом… Чтоб миновать «Смерш», трибунал, чтоб вернуться к своим – и пойти в атаку… Я потом стихи написал: «Высотка Эн. Ее на карте нет…»
Я медленно цедил слова – вслед за всплывавшими картинами воспоминаний. Мне было безразлично – окажется прораб Гошкой Катаевым, или не окажется им. Я сейчас жил прошлым. Я уже собирался уходить – зачем людям мешать своими так некстати наплывшими воспоминаниями. Кто-то окликнул прораба – и он, оставив меня, побежал к ближнему крану…
И что мне стоило узнать фамилию прораба? У любого строителя, например… Я вдруг побоялся разочарования. Да, конечно, это он, он… И жест тот же! Жест стратега!
И, стало быть, все в порядке… И где же еще ему, москвичу, жить, Гошке Катаеву, как не – в Москве? Не погиб, остался в живых… Строит. Целые комплексы.
«Толковые люди, москвичи», – подумал я.
Месть
Монгольское лето над Ундэр-Ханом, целый месяц оглашаемое гулом самолетных моторов, пальбой корпусных гаубиц с Хинганского перевала, обложенным стрекотом зениток с обеих сторон Керулена, – в этот год, видно, перепутало все календари. Осень все еще не смела подступиться. Сентябрь стоял знойный и сухой, точно на дворе только начался июль, когда таежные пади далекого, теперь для нас, Забайкалья усеяны простодушно обнаженной голубикой, а лукаво-застенчивая брусника пунцово и зазывно рдеет, выглядывая из низкой травы…
Под крылом своих Пе-2 мы в эти дни прохлаждались, бездельничая после короткой войны с Японией, после напряженных ночных полетов и выматывающих нервы готовностей «номер один», томительных часов ожидания и будоражащих воображение россказней про смертников-камикадзе и харакириющихся летчиков-асов… Днем мы или отсыпались («выбирали люфты», выражаясь по-авиационному), сунув под голову парашют, зимний моторный чехол, а то и попросту противогаз, или до одурения забивали «козла» на чьем-то обшарпанном, повидавшем виды чемодане с помятыми боками, но – точно старый боевой конь свои подковы – сохранившем сверкающие железные уголки…
Вечером, после ужина, мы подшивали подворотники к выгоревшим до белесости гимнастеркам (перегнутый пополам лоскут от ветхой простыни), густо ваксили техническим вазелином свои размочаленные корабли-скороходы, навивали потуже и повыше спирали чертовых голенищ – обмоток, и, вообразив себя на вершине солдатской элегантности, – отправлялись на танцы. Каждый вечер на пятачке возле продпункта, за две недели сплошных танцев растоптанном до глубокой пыли, светили посадочные прожектора и хрипел трофейный аккордеон.
На десятки километров вокруг лежала монгольская степь, унылая и голая, с такими же унылыми, убегающими за горизонт сопками-гольцами. До боли в глазах смотрели мы вдаль, пока окончательно терялось ощущение реального и сопки начинали казаться нам уснувшим стадом баранов или грядой озябших облаков. В эти минуты далекое Забайкалье, откуда мы сюда прилетели, с его студеными, быстрыми речками и дремучими кедрами на островерхих сопках, главное, с его лютыми морозами, представлялись нам чуть ли не землей обетованной…
Я дежурил у штабной палатки с вылинявшим флажком на острие шеста и слышал беседу командира полка Дерникова с заместителем по политчасти майором Кудиновым.
– Надо чем-нибудь занять народ, командир, – проговорил замполит Кудинов. Он, как всегда, говорил, негромко, на полутонах…
Чувствовалось, разговор был старый, и, судя по тому, как долго не отвечал Дерников, тема была не по душе нашему «бате».
– Эх, комиссар, и охота тебе в бирюльки играть! – с досадой отозвался Дерников, – Хорошо повоевали люди, пусть отдохнут! Небось скоро приказ о демобилизации подоспеет. Надо же им прийти в себя, подумать о гражданском своем житье-бытье… Верно я говорю? Или прикажешь «курс молодого бойца», «подход к начальнику с рапортом», «отдавание приветствия»? Теперь как-то обидно для победителей.
Комиссар не спешил с ответом. Кудинов, я знал это, был настырный мужик и своим ровным и бесцветно-настороженным голосом, точно верная супруга своего мужа, умел доводить Дерникова «до точки» и добиться своего.
– Праздность, командир, не к лицу победителям, – продолжал гнуть свою линию Кудинов. – Армии крепнут в походах и разлагаются в бивуаках. Это старые, как мир, истины… Да и вообще, – праздность мать всех пороков… Всех смертных грехов…
– «Смертные грехи», «разложение»!.. Вечно тебе страсти мерещатся. И какие уж тут, скажи, комиссар, грехи? Степь да тарбаганы. «Ни баб тебе, ни блюда», – как сказал поэт… А в общем – чего ты хочешь? – вроде как бы поостыв немного, примирительно спросил Дерников. – Снова занятия по матчасти? Так ее скоро на утиль спишут, матчасть нашу. На реактивных будем летать, комиссар! Или, может, соскучился по политбеседам на тему «Священная ненависть к врагу»? Но враг-то повержен, капитулировал враг, как тебе известно… Последние эшелоны пленных отбыли в леспромхозы. Не самураи, а пай-мальчики. «Служили Микадо, послужим Сталину…» Фарисеи азиатские!..
– Да это я все понимаю, – перебил Кудинов склонного к отвлеченности Дерникова. – Может, наконец, какую-нибудь самодеятельность организовать? Ведь еще никто не знает, когда этот приказ о демобилизации придет. А у личного состава – знай одно дело: козла забивать, а вечерами пыль месить на танцульках. Стыдно за авиаторов.
– Что ж, – самодеятельность – неплохая мысль, – как-то просветлел голосом Дерников. – Но как ты ее организуешь? Всех талантов, помнится, побрала у нас еще в прошлом году эта самая… как ее… фронтовая агитбригада. Кстати, ты не знаешь, куда она запропастилась? Небось, в Чите да Иркутске прохлаждается. Генералитет развлекает. Таланты и поклонники!..
– Насчет талантов, командир, не беспокойся. Это уж моя забота, – загадочно усмехнувшись, сказал Кудинов и вышел из палатки. Я самую малость вытянулся, обозначив уставную стойку смирно, майор же сделал вид, что она ему без надобности – как обычно уж авиация обозначает безо всякого рвения все пехотинское. Тем более: война кончена.
– Сбегай, пожалуйста, за Рыкиным, – шепнул мне Кудинов и даже как-то попытался доверительно подморгнуть мне.
Откинув за спину бессмертный противогаз и придерживая его рукой, я побежал, впрочем, не слишком быстро («война кончена»!) выполнять приказание заместителя командира полка по политической части. «Ну, если Рыкин – скучно не будет!» – подумалось мне.
Небольшого роста, белоголовый («седой», как мы его называли), с глазами какой-то пронзительной, насмешливой и смущающей голубизны, ефрейтор Рыкин, как всегда улыбаясь всем лицом, за что удостоился второго, еще более популярного прозвища – Швейк, через несколько минут стоял перед командиром полка.
У вечно не унывающего Рыкина, моториста нашей второй эскадрильи и моего друга, было никем неоспоримое амплуа полкового остряка и еще запевалы на строевых смотрах, впрочем, довольно редкостных за последнее время. Любую беду (а у Рыкина взысканий было больше, чем это вообразить можно было) он сносил с непостижимой для меня беззаботностью. Он сыпал шутками и повторял свой излюбленный афоризм: «Даже смерть не стоит минуты дурного настроения». Можно было подумать, что смертей на долю Рыкина выпало не меньше, чем взысканий, и он свой афоризм успел основательно проверить.
– Ну, как, – сможешь? – без всяких предисловий и в упор спросил Дерников у невозмутимо улыбающегося моториста. Командир полка понимал, что предисловия ни к чему, что у его замполита и у этого моториста уже состоялся предварительный сговор. Недаром Кудинов с таким безразличным видом уселся на штабной сейф в углу палатки. «Хитрец! Ничего просто не сделает… Или такой уж трудный характер у меня, что никак нельзя ему без фиглей-миглей?» – глядя на Рыкина, подумал Дерников про своего комиссара.
– Смогём, товарищ полковник! – Рыкин лихо вскинул руку к пропотевшей и замаслившейся, к тому же еще в белых пятнах соли – точно от морской воды – пилотке.
– Не скоморошничай. Разговор-то серьезный, – нахмурил выгоревшие брови командир полка.
– Есть разговор серьезный! – отозвался Рыкин. – Когда прикажите выступить? После обеда или после ужина.
– Да ты что – смеешься? – сам рассмеявшись, посмотрел в сторону Кудинова развеселившийся командир полка. Майор Кудинов как ни в чем не бывало, сосредоточенно рассматривал свой клееный плексигласовый портсигар – производства моториста Ефимьева – большого мастера на всякие безделушки.
– Как прикажете, – стараясь больше не улыбаться и уважительно окинув глазами ордена на командирской груди, наморщил лоб Рыкин. И словно самому ему вдруг прискучило собственное легкомыслие, перешел на деловой тон.
– Видите ли, МХАТ или ансамбль Моисеева я вам гарантировать не могу. Все равно не получится… Так что дело не в сроках и не в числе репетиций… Тут нужно нечто принципиально новое, стихийное что ли! Солдатам по душе гротесковое, ералашное… Но конкретно я сейчас – ничего сказать не могу. Надо подумать! Искусство и творчество… «Где, когда, какой великий выбирал путь, чтобы протоптанней и легче?» Сюитку спроворим. Чтоб было смешно… По-умному смешно…
Командир полка пристально следил за Рыкиным.
«Так вот он какой, Швейк наш!.. Изъясняется-то как!» – думал Дерников, в который раз уже за командирскую жизнь свою испытывая это чувство неловкости за поверхностное, уставное знание людей своих. И с запоздалым покаянным чувством вспомнил сейчас Дерников, как накануне войны с Японией держал он Рыкина десять суток подряд на хлебе и воде…
…Занятная история тогда с Рыкиным произошла. И смех, и грех вспомнить. Во время учебных стрельб, вместо «конуса» (этого огромного цилиндрического перкалевого мешка, буксируемого самолетом и свертываемого в большой клубок перед выбросом) Рыкин вытолкнул в нижний люк… свой парашют. Это было тройное преступление. Мало, что он сорвал стрельбы и явился причиной убыли казенного имущества. Сверх того, он – тогда еще стрелок-радист – как бы расписался в том, что нарушил устав, во время полета самовольно освободил себя от обязанности носить на себе парашют…