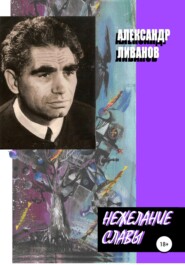По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мой конь розовый
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поистине – пропасть. И не в «просвещенности-непросвещенности» обстояло дело. Все объяснялось изначальной неискренностью – или неполнотой искренности, которые народу претили, которые он не мог простить! Народ серьезней относился к просвещению, чем народники…
Между тем, еще задолго до народников и их «ряженого служения» в истории нашей духовности предстал перед нами высший и чистый образец подлинных плодотворных и взаимоуважительных отношений этих двух данностей – «интеллигенция и народ»! Мы говорим о Пушкине и его неграмотной крепостной няне Арине Родионовне.
Ни грани «барского снисхождения» со стороны поэта, ни тени холопской услужливости со стороны крепостной няни. Удивительная душевная теплота и взаимная забота, любовь и понимание души каждым – в каждом! Это куда больше, чем «человечность», «демократизм», «учение ладить» или «учение приспособиться»! Няня умела ценить ум и дар поэта, равно как он умел ценить в ней мудрость и богатство народной души! И при всех человеческих недостатках и слабостях родителей Пушкина, равно как их родителей, нужно им отдать должное уже за одно то, что они могли заметить незаурядность этой женщины, приблизить, держать постоянно в своем барском доме. Бабушка поэта Мария Алексеевна Ганнибал и вовсе хотела дать «вольную» сорокасемилетней крепостной няне поэта – ему уже исполнилось двенадцать лет! – но Арина Родионовна отклонила предложение барыни: «На что мне, матушка, вольная…». Надо думать, что няня так привязалась к мальчику, что и «вольная» без него была бы ей в муку!.. Но судьба была жестока как к поэту, так и к его любимой няне, к его «мамушке». Сперва она вынуждена была расстаться с поэтом на шесть лет его лицейской учебы (всего лишь несколько раз удалось ей увидеть любимца за это время), затем еще на четыре года южной ссылки поэта… Два продиктованных няней письма Пушкин бережно хранил до самой смерти…
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.
В семье Пушкиных Арина Родионовна нянчила сперва Ольгу, затем Сашу, наконец Лёву. Но, знаменательно, что с самого его младенчества сердце няни было отдано любимцу Саше – будущему поэту, который, наоборот, у родителей был нелюбимым ребенком… Было бы неверно во всем видеть «провидение» и «перст судьбы». Вещее сердце мудрой и неграмотной женщины первое провидело ум и дарование будущего гениального поэта. Да ведь и она была поэтом – не подозревая об этом в своем – народном – скромном самозабвении творчества!
Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал…
«Шепот старины болтливой», – так Пушкин, шутя, называет нянины сказки и рассказы о былом», – пишет об этих стихах А. Гессен. Это, разумеется, не так. Ни с шутливостью, ни с иронией – Пушкин никогда не относился к рассказам своей «мамушки»!
«Пишу записки, обедаю поздно; после обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки… Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» – писал Пушкин брату Льву. В другом письме – к одному из друзей – Пушкин писал: «…вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны.., она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно».
Стало быть, «Под шепот старины болтливой» – это вовсе не шутливое отношение поэта к няне и ее рассказам… В «шепоте», в «болтливости» – незаданность и бескорыстные, самозабвение и искренность творчества, присущего народному началу. Их простодушие и совершенная «непритяжательность» в претензии на авторство, на «я»: фольклор живет именно как предание, без начала и конца, из души в душу, как общенародная ценность, о которой не думают, как о воздухе, которым дышат, но без которого нет жизни! «Шепот» и «болтливость» старины – ненавязчивы, но неотвратимы, как шепот дубрав, как болтливость ручья. И полная противоположность этому незримому и неостановному течению из глубин старины слову фольклора («небылицы»), их «шепоту», их «болтливости», точно роящемуся роднику – заданно записанное «рукою верной» слово поэта, слово для печати! Но и в этой противоположности поэт тоже забывается в своей заданности, забывается надолго, словно и не ведая труда: «В часы досугов золотых»… И не так ли Пушкин записал семь сказок няни! Три из них поэт обработал для печати («Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»).
Да и подходяще ли здесь слово – «обработал»? Одна причудливая форма поэзии (фольклорной, народно-ритмического сказа в прозе) перелилась в другую форму поэзии (в пушкинский дивный стих, с его редкостной музыкальностью, богатством интонаций, мудро-сдержанной, концентрированной образностью…)
И вот как творчески сопрягаются эти формы – рассказа няни и слова поэта, записанные рукою Пушкина.
«Что за чудо, говорит мачеха, вот что чудо: у моря лукоморья стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот, вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет».
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
«Родионовна принадлежала к… благороднейшим типам русского мира. Соединение добродушия и ворчливости, нежного расположения к молодости с притворной строгостью, оставили в сердце Пушкина неизгладимое воспоминание. Он любил ее родственной, неизменной любовью и в годы возмужалости и славы беседовал с нею по целым часам».
То есть, беседовал увлеченный, с интересом – как беседовал с Карамзиным и Чаадаевым, с Гоголем и Жуковским, с Пестелем и Александром Тургеневым, с другими умнейшими людьми современной ему России!
Но, думается, П. Анненков, слова которого приведены выше, напрасно акцентирует так на исключительности «типа русского мира» в няне Пушкина, возводя ее в ранг некоего феномена. Скорей всего, что здесь уместней были бы слова Некрасова: «Есть женщины в русских селеньях»! И узнали мы про одну из них, благодаря Пушкину. Не сама по себе, видать, такая уж редкость «типа русской женщины» Арина Родионовна – дело скорей всего в редкостно счастливой ее судьбе: быть няней и подругой Пушкина!
В ноябре 1826 г., вернувшись в Михайловское после вызова царем в Москву, Пушкин писал Вяземскому: «Деревня мне пришла как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительность, но встреча моей… няни – ей-богу приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения, самолюбия, рассеянности и пр… Няня моя уморительна. Вообрази, что 70-ти лет она выучила наизусть новую молитву о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости, молитвы, вероятно сочиненной при царе Иване. Теперь у ней попы дерут молебен и мешают мне заниматься делом».
Название молитвы Пушкиным, надо полагать подчеркнуто неспроста. Ведь сравнительно недавно, в июле этого же 1826 года, Пушкин ответил на письмо Вяземского с его стихами «Море» известным восьмистишьем.
Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.
Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек –
Тиран, предатель или узник.
В это время шло к концу следствие над декабристами. Вся Россия оцепенела после жестокого подавления царем восстания декабристов, и, по глухим слухам, уже знала о том, что царь намерен так же жестоко обойтись с подследственными. Разумеется, об этом толковал Пушкин и с няней… Вот, стало быть, побуждение к отысканию и заучиванию молитвы, столь прозрачного названия! На этот раз имелся в виду уже не «царь Иван», а Николай I. Вот почему Пушкин находит нужным об этом сообщить Вяземскому. Поэтому же сообщает другу и то, что «у ней попы дерут молебен»… Всем этим Пушкин дает знать Вяземскому, что весь народ, и, стало быть, вслед ему – «попы» осуждают жестокость царя к декабристам, все готовы молиться «о умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости»…
И все это вместе ярко характеризует и отношение как самого Пушкина, так и его няни к декабристам и их палачу – царю Николаю I… Наконец – в этом убедительный аргумент для той же проблемы: интеллигенция и народ!.. Аргумент, свидетельствующий о том, что народ всегда понимал – пусть не цель – искреннее побуждение подвига интеллигенции! Ведь и декабристы, и Пушкин – были прежде всего тем общим в сложных перипетиях духовности, которые принято обозначать столь не простым по смыслу словом: интеллигенция.
Аргумент, думается, веский – хотя далеко не единственный для темы… Более того, проблема здесь в сущности – без проблемы.
Да, на всех исторических перепутьях народ понимал интеллигенцию, ее служение. Требовалась лишь такая здесь «малость» – как истинность, не внешний образовательный ценз, не формально-сословный статус, а чувство народной души, ее заветов и надежд, как собственной души! Свое главное, наконец, понимание народом всего подлинного и честного в сложном явлении, в разнообразнейших проявлениях его – интеллигенция – народ показал в начале нашего века, в эпоху трех русских революций, о которой Блок сказал: «И всё уж не мое, а наше, и с миром утвердилась связь»!
Игры в форму
Он из тех, о ком обычно говорится: неладно скроен, но крепко сшит. Большое, и, чувствуется, крепкое тело, едва втиснуто в добротное пальто из голубовато-серого ратина, с ондатровым воротником, такая же ушанка. Не то ушанка мала, не то голова крупная. Скорей, последнее. Крепкий красный затылок чисто выбрит, всхолмился, лоснится. Лицо – широкое, костистое, большеносое. На лиловато-розовом лице – этому большому и бесформенному «носу картошкой» неуютно. Как-то кончика нет на нем, вместо него какая-то совершенно вялая и ноздреватая загогулина. Лет мужчине, как и мне, за шестьдесят, но вряд ли он чувствует свой возраст, свои года… Колени его расставлены широко, большие и крепкие руки положены на «дипломат».
Я подумал, что такого человека, наверно, усиленно разыскивают киношники, когда им нужно снимать матерого хозяина, кулака эдак серединных двадцатых… Разве-что у него отнять «дипломат», надеть на него вместо ратинового пальто – поддевку, а вместо кургузой шапки – этакую фуражечку с маленьким, когда-то лакированным, козырьком, закрывающим глаза.
Во всей позе – спокойная уверенность. Впрочем, видать и в том, что одет не просто хорошо, но и модно. Время от времени он отставляет наперед ногу, обутую в новый и дорогой теплый кожаный полуботинок на молнии. (У меня таких полуботинок нет – и не будет… И не потому, что не могу купить. Бывает и гонорарные месяцы… Но зачем? Семьдесят рублей за пару теплых ботинок отдать – считаю излишеством. Я старый писатель, мне и суконные «прощай молодость» на семнадцать рублей хороши!.. А вот ему, видать, не хороши!)
Интересно бы знать – кем же он работает? Но словно услышав мой вопрос, он открывает «дипломат», из кармана под крышкой вынимает бумагу с грифом, с машинописным текстом и с печатью и подписью. Бумага на миг плавно перегнулась в его руках – и я вижу – под грифом – первую фразу. Не всю, начало: «Начальнику базы…». Он поправил лист в толстых пальцах и продолжал читать. И чего он так долго читает? Три строки – вижу на просвет. Значит любуется бумажкой. Снова открыл «дипломат», вернул на место бумагу, я успеваю заметить бутылку марочного коньяка, прикрытую газетой и еще свернутый полутрубкой журнал, с четырнадцатой страницей на углу. Он распрямляет журнал и приступает к чтению.
Ну, ну – вот, наконец узнаю – кто он? Ведь не начальник базы сам к себе везет письмо. Да и не ездят они в трамвае. Дачник? Садовод? Снабженец? Будет «выбивать» стройматериал. Усядется в углу кабинета – вот так же основательно расставит ноги, руки на «дипломате», будет приязненно улыбаться посетителям кабинета, поддакивать всем и ждать удобного момента «один на один»?
Еще раз смотрю на мужчину, с которым сижу рядом. Да, «дипломат» – явно потуга «соответствовать»!.. Видимо, все же снабженец. По этой трубке журнала судя. Все норовит свернуться. Видать, до «дипломата» основательно насиделся свернутым в кармане. Да и куплен, видать, случайно. В дорогу. Главное, углы страниц, точно лепестки, загнуты, шрифт кое-где начисто сошел…
Наконец журнал удачно распялен на «дипломате» толстыми растопыренными пальцами большой – правой руки. Заголовок крупный – и я читаю «Старые вариации и броская новизна». Ну и ну – названьице! Это что же – о музыке? И я слегка поддался к журналу. Над заголовком – строчка помельче. Ах, – «рубрика». Вот и хорошо, вот мы узнаем и журнал, и читательские интересы моего спутника! «Проблемы хоккея с шайбой», – читаю я.
Ах, вот оно что. Журнал, наверно, «Физкультура и спорт». Ну и ну! Знай наших! «Проблемы», «вариации» – а в тексте успеваю заметить – «творчество», «искусство», «стратегия»…