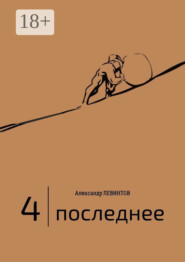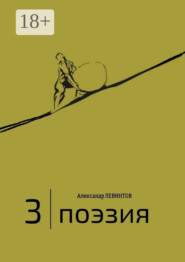По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
1 | Плато. Диалоги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Алкивиад: …Лев Толстой!
Сократ: Превосходно. А вор, ставший козлом?
Алкивиад: Барон из «На дне», а того лучше, бывший камергер Митрич из Вороньей слободки, любивший поговаривать, что мы, мол, гимназиев не кончали, потому что он кончал Пажеский корпус.
Сократ: Ты хорошо знаешь восточную литературу, гораздо лучше истории.
Алкивиад: Их историю хорошо не знает никто. У них вообще нехорошая история.
Сократ: И, наконец, последний из аутсайдеров – мужик, ставший или становящийся козлом…
Алкивиад: Васисуалий Лоханкин и вся их интеллигенция после 1986 года: одни пошли в памятники, другие – в пролетарскую торговлишку, третьи – и туда и сюда, но все они стали нищими.
Сократ: И в этом особенность, но уже отличие не восточного общества от западного, а развивающегося от развитого. В развитом социуме средний слой – мужики ли, социальные ли агенты, принципы ли – самый массовый и мощный слой. В развитом обществе мало и очень богатых и очень бедных, они незаметны, несущественны и не раздражают никого из-за своей малочисленности и укромности. В развивающемся обществе обвально много козлов и жертв, работать же некому или никому неохота, а в воры попадают очень немногие, но весьма заметные.
Алкивиад: Чем?
Сократ: Прежде всего бессмысленностью своего попадания наверх. Как правило, это Иванушки-Дурачки, в лучшем случае, а в худшем – отчаянные негодяи, крошки Цахесы.
Алкивиад: И ты утверждаешь, что представленные девять типов полностью описывают социум?
Сократ: И даже более того, они неизменно присутствуют в любом обществе, хотя могут иметь разное представительство, а потому так пестр социальный мир: ведь сюда еще примешиваются культурные и национальные традиции, особенности среды и индивидуальные характеристики наиболее выдающихся социальных акторов и воров.
Алкивиад: Как проверить твои утверждения?
Сократ: Нет ничего проще. Возьми любую группу людей больше девяти человек и попроси их построиться в три колонны. Ты увидишь как многие из них начнут хитрить или использовать силу, чтобы занять место в голове колонны и как не меньшее число людей как бы безразлично к своей судьбе и займут любое, включая последнее, место. Потом раздели каждую из трех колонн на три части и попроси передних построить из себя отдельную колонну, средних – отдельную колонну и последних – то же самое. Тут-то ты и увидишь подлинную и отчаянную борьбу за выживание одних и беспощадное стремление наверх других.
Алкивиад: Но ведь как бы они ни боролись и ни отчаивались – их всегда будет девять групп!
Сократ: В том-то и суть! Пойми, мой милый, что бороться люди могут только за свое место или за свою траекторию в социуме, перестроить же сам социум они не в состоянии. Все преобразователи и революционеры – либо полоумные либо обманщики. Структура общества неизменна и неуничтожима в силу своей чрезвычайной простоты. Это – как соты пчел: каждая пчела вольна делать их больше числом или меньше, больших размеров или меньших, но – все соты шестигранны и не могут быть иными.
Алкивиад: но кому и зачем понадобился этот простенький и неубиенный механизм?
Сократ: Тебе обидно за людей?
Алкивиад: Признаться, немного да
Сократ: Я ж вижу в том благую игру и милость провидения. Оно сотворило социальность столь простой, чтоб человек не обращал на нее особого внимания, чтоб его не захлестнула жадная волна честолюбия и гонора, чтоб он обратил свое внимание и силы на другое, более значимое, чем простенькая социальная организация и его ненадежное место относительно костра в пещере.
Алкивиад: Что ты хочешь сказать?
Сократ: Я говорю лишь очень простую и ясную мысль: не то, что общество, то есть собрание современников, но и все человечество есть такое странное множество, каждая единица которого равномощна ему и может даже превышать его.
Алкивиад: Как это?
Сократ: Человек не есть резко очерченное пространство тела, получившее тем или иным образом имя. Человек вмещает в себя знания других, может переживать и сочувствовать страданиям тех, кого и не знает, он может предвидеть чувства и жизни далеко вперед и назад и за пределами своей крошечной плоти, он может мыслью своею обнять все остальное человечество и даже все мироздание, включающее человечество и в этом он превосходит всех живущих при нем, до него и после него. Он может даже быть бессмертным героем и богом, а может ли это сделать человечество?
Алкивиад: Так чем же тогда, скажи Сократ, человек отличается от Бога?
Сократ: принципиально – ничем. Он – наименьшее из достойного и равного Богу. Бог есть пространство вмещения человека и по своей природе человек божественен.
Алкивиад: А остальное?
Сократ: А остальное божественно по-своему. Но нам не дано знать нечеловеческую божественность всего остального, ведь мы – всего лишь люди.
– Кончилось. Может, повторим? – спросил я, не надеясь на согласие.
– Да, можно, – пропустил между строк сиреневого тумана тот, с кем было выпито уже три «совиньона» подряд. Совсем завечерело…
… – Готово! Есть иди!
– А что там у нас?
– Жаркое. Тебе с косточками положить?
– Разумеется.
Сентябрь 1993 года, Симферополь
Трое на пути
(Залитый солнцем сад у дома Тома. Скамейка на ноябрьском солнцепеке. Скорее ясно, чем тепло)
Эд: я, кажется, все-таки не опоздал.
Рене: нет, приятель. Мы только что начали. Тома озадачил меня вопросом, на который я затрудняюсь не только ответить, но даже представить, откуда у него берутся такие вопросы.
Тома: Рене хитрит, он просто хочет выиграть время на обдумывание. Но ведь нам спешить некуда, друзья?
Эд: а что за вопрос?
Тома: я спросил у Рене, различает ли он рассуждение и размышление?
Эд: а сам-то ты их различаешь?
Тома: для меня они почти неразличимы. Но раз уж это разные слова, то должны быть и различия, хотя бы для философа.
Рене: по-моему, это ты здорово сказал. Различия в словах нужны хотя бы для философов и, значит, это они придумывают разные слова.
Тома: Рене, ты не прав. Слова невозможно придумать. Они – есть уже. Если мы их и открываем, то только для себя. Открывая жалюзи, мы пускаем в свой дом дневной свет, но солнце встает и без нас и ему нет дела до наших жалюзи.
Эд: Тома любит порассуждать, но вопроса это не решает, он остается.
Тома: да, именно – порассуждать. Рассуждение строится по определенным правилам, прежде всего, логическим правилам. Рассуждение формально и в этом его непререкаемость. Размышлять – вольготно и безответственно, ведь ничего, никаких правил не нарушаешь. Рассуждать приходится, соблюдая строгие нормы. Размышление безрассудно и, по крайней мере, для меня – неприемлемо, оно непринципиально, непринципиальность философа дискредитирует его и превращает в простого мыслителя. Сократ еще не был философом – философия началась с его внучатого ученика, Аристотеля. При всей личной честности Сократ не мог не лукавить, то есть не мог не быть мыслителем – и чем он кончил? Мышление греховно само по себе и потому с неизбежностью влечет за собой заумь, метанойю, покаяние.
Рене: твои суждения, как всегда, безупречны, Тома, но, знаешь, меня они не удовлетворяют.
Тома: так это – твои проблемы и трудности.