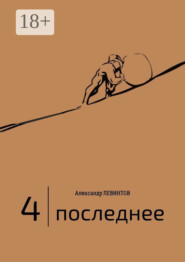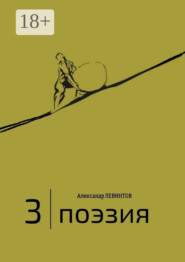По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
1 | Плато. Диалоги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С О Ф О К Л: вот ты спрашиваешь, как это делается, а я тебе скажу – нет ничего проще. Сначала я слева направо размещаю персонажей – в соответствии с рассказами древних. Потом создаю первое место, начальное. Ну, например, пир богов и подброшенное яблоко с надписью -«самой красивой». Потом – последнюю сцену, финал, апофеоз, мораль. Какое-нибудь избиение женихов или Афинский суд над сыном вождя ахейского войска в Трое. А потом заполняю в определенной последовательности все промежуточные сцены, как бы пока забыв о персонажах.
П Л А Т О Н: так просто? Но ведь вся драма людей в том, что они ниоткуда и никуда, они – лишь краткие эпизоды в жизни идеи, ей почти незаметные и неразличимые.
СОФОКЛ: но ведь я и пишу драмы людей! Аристофан смеется и издевается над людьми, героями и богами – у него получаются комедии, сатиры. Мне трудно назвать это драмой, но это – драма. Кстати, не так все просто, как тебе, возможно, показалось. Ты помнишь, у меня получилось так, что слева направо расположены разные персонажи, а сверху вниз – хронология мест или сцен. И теперь начинается самое интересное: мне надо на пересечениях расставить реплики, действия и мысли, связав их так, чтобы это было необыденно и обыкновенно, а наполнено явными и скрытыми значениями, чувствами, ревом чувств, козлиным ревом чувств, страстями необыкновенными, потому что только необыкновенное поучительно. И вместе с тем все это должно быть не только страстно и поучительно, но и оправдано, мотивировано, очевидно.
ПЛАТОН: ну, да, ведь иначе зритель и не поверит и не будет сопереживать, он будет только недоуменно пожимать плечами и говорить «это просто невозможно, это сочинил человек в припадке безумия».
СОФОКЛ: вот-вот! какие бы безумия ни творились на сцене – зритель не должен впадать в такое же неистовство и должен понимать, что же все-таки происходит.
ПЛАТОН: а если ты обнаруживаешь, что кто-то на сцене лишний: ему нечего сказать или сделать? что ты делаешь с ним? или – что ты делаешь, когда видишь, что имеющихся персонажей не хватает для выражения слов или действий?
СОФОКЛ: мой милый, я их просто создаю, если их не хватает, или просто уничтожаю, если они лишние. Демиург я или не демиург, в конце концов?
ПЛАТОН: демиург, демиург. Да ты, приятель, просто горшечник, глиномеситель.
СОФОКЛ: Люди могут лишь рассуждать либо действовать – но безумно, люди катастрофичны из-за своего промелька в идее. Они рациональны – и не более того.
ПЛАТОН: Люди – да. Но человек – разумен. Рациональность – всего лишь вектор, кстати, направленный вниз, к концу и смерти. Разум сферичен и спекулятивен – он всегда может прирастать и расширяться подобно пузырю.
СОФОКЛ: пусть ты прав – на этом драму не сделаешь.
ПЛАТОН: драму людей, событий, места и времени – да, но есть же и другие драмы!
СОФОКЛ: неужели? какие же?
ПЛАТОН: есть драма самой идеи.
СОФОКЛ: и в чем же она состоит?
ПЛАТОН: моя драма – от пролога к эпилогу идеи, где люди и действия – лишь декорация, где персонаж размышляет, следовательно развивает идею, и этим персонажем может быть любой, втянутый в идею – бог, герой, человек, нечто. Драма идеи – в поиске выразителя, их мало и мало среди них достойных идеи.
СОФОКЛ: как же ты ее создаешь?
ПЛАТОН: как ларец в ларце. Одна и та же мысль, всего одна, ищет своего лучшего выражения – и мы: мысль, я и зритель, точнее сомыслитель этой драмы – движемся вглубь этой идеи, все дальше и дальше, а декорации, которых, признаться, и вовсе нет, тают и растворяются в собственной ненужности, персонажи, как дым, рассеиваются и забываются, все несущественно, кроме идеи, которая все не является и не является…
СОФОКЛ: и так и не появляется никогда?
ПЛАТОН: она, а точнее ее след, называемый смыслом, сомыслием возникает только при прочтении и продумывании мысли.
СОФОКЛ: значит, твою драму мысли нельзя разыграть на сцене?
ПЛАТОН: можно, но зачем, если мысль сама по себе – лучшая игра идеи.
ЗАНАВЕС
(раздается рев взлетающей мысли, из которого прорастает торжествующий гимн небесных сфер, горизонт и все пространство голубеют в ослепительном озарении понимания произошедшего)
Время Анализиса
30 сентября. Вера, Надежда, Любовь. Три девочки, которых мать благословила на муку и смерть от упорствующих на пути к христианству варваров. Я еду в плацкартном вагоне поезда Симферополь-Москва. За окном – пронзительно синее, неистощимое и неистовое небо и притихшая суета жизни. В разбитном вагоне, сляпанном в конце квартала одной из старинных пятилеток, грязно, нелепо, шумно, ободрано, обобрано и обворовано, дрянно и разболтано. Не соблюдается ни одна норма и ни одно правило: мы везем с собой холеру.
Я уже порядочно пьян от проводов в кислой среде ркацители, совиньона, каберне и чего-то совсем беспородно кислого. Попиваю маленькой кофейной чашечкой чудом уцелевшее в прощаниях ркацители и вяло-корявым почерком достаю из памяти давным-давно не состоявшийся диалог.
– Можно?
Она молчит. Да мне и не нужен ее ответ. Я целую ее, преодолевая полумгновенное сопротивление нежных и изящных губ. Ее тело и волосы издают еле слышный мягкий аромат, совпадающий с тонкой нежностью кожи. Маленькая грудь трепетно бьется в моей ладони, я целую еле выступающий сосок и слышу над собой тихий усталый вздох. Обычно веселые, ее глаза теперь чуть не плачут, а растянутый и смятый поцелуем рот дрожит. Романтика неизвестности и тайны отношений кончилась и начались совсем другие.
– Тебе плохо?
И в ответ она начинает оседать без сил, в глубоком изнеможении. Сам собой на нас падает полумрак любви и в этом полумраке она, нагая, видится мне еще прозрачней, прекрасней и совершенней. Лоно, устланное легчайшим каракулем, открывается ниже изящной, ажурной портьерной складкой цвета пьяной вишни, острое жало любви, маленькое и упругое, слабенький кинжальчик наслаждения, о чем-то взывает к моему языку и они, сойдясь, уже не могут расстаться и намиловаться.
Она дернулась, вздрогнула и повалилась на бок в изломанно-изящном изгибе, исходя упругой судорогой. Но вот эти волны стихли, и я вошел в пылающую и истекающую сладчайшей отравой пещеру.
– Как хорошо нам с тобой! – сказала она после долгой паузы, когда все кончилось.
– Давай позовем Илью.
– Зачем? Какого?
– Так однажды сказал Петр Христу, когда ему, простому рыбаку, стало хорошо наедине с Богом. И он позвал Третьего. Людям почему-то всегда нужен третий как свидетель и участник счастья на двоих.
– Нет, не надо нам никакого Ильи. Мне хорошо с тобой. Хочешь, я почитаю тебе свои стихи? Однажды это все мне приснилось и я тут же ночью написала, хотя вообще-то стихов не пишу:
После долгих ожиданий
я из дому выхожу
мимо странных длинных зданий
я иду и не гляжу.
Очень страшно, очень томно —
окна мрачные кругом,
в жутком городе огромном
ни души. Почти бегом,
легкой тенью, мышью белой
я крадусь в немую даль,
а в душе оторопелой
бьется грустная печаль.
Вот вдали огонь мерцает.