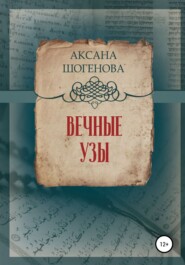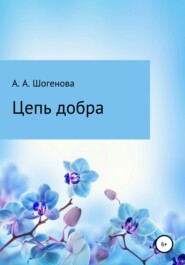По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Капканы и империи
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Феликс Наков, держа в руках шашку продолжал повествовать, что черкесская шашка с 1968 года – церемониальное, парадное и наградное оружие для офицеров, элемент парадного военного мундира. Черкесская шашка превратилась в символ, перешла в геральдику. Шашка изображена на ордене Отечественной войны I и II степени, на медали «За боевые заслуги». В современной России высокопоставленных гостей встречает почетный караул с шашками. В языке закрепились идиомы – «шашки наголо», «рубить сплеча». Поразительно, насколько за двести лет она вошла в жизнь, историю и литературу страны с лёгкой руки Пушкина.
Привел Наков и материал Коллегии иностранных дел Российской империи 1748 года, где отмечали, что никакое нерегулярное войско с кабардинцами сравниться не может. И кабардинский воин был не только отлично вооружен, экипирован, у него даже скакун был особенный. Феликс Наков процитировал автора учебника верховой езды Шрейнера, который писал, что кабардинская лошадь обладает характером кавказской овчарки, она склонна проверять всадника и всадник должен доказать коню свой авторитет. Наков пояснил журналисту: «Скакун, обладая высокими качествами боевого коня, он старается убедиться в превосходных личных качествах наездника – рыцаря, проверяя его. А убедившись, становится верным, неустрашимым другом и в бою и в самых тяжелых условиях похода. При налёте на противника его верный скакун тоже становился участником боя – он грудью сбивал вражеского коня».
Я смотрел видео с Куркого Атажукиным из Национального музея Кабардино – Балкарской республики и постигал другую особенность, которую уже когда – то выделил в фильме «Аватар», обретая в нём сокровищницу моего сердца. Как экраны – летающие драконы из фильма испытывали своих наездников при первом знакомстве, ровно так же и лошади кабардинской породы, обладавшие особым характером – преданностью, мудростью и воинской доблестью, при первом знакомстве с наездником испытывали его и выбирали себе того, кому будут верным другом и помощником.
Там где настоящий конь, там есть и доведенное до совершенства седло и достойная конская упряжь. Дойдя до этих элементов, тоже участников победы в схватке, Ф. Наков процитировал журналисту Штыбину автора книги «Оружие народов Кавказа» Э. Г. Автвацатуряна: «Черкесское седло имеет как конструктивные, так и технологические особенности, которые делают его великолепным боевым седлом, позволяющим всаднику проделывать длительные походы, не утомляя коня весом, либо вредным воздействием на тело животного, а в бою приёмы боевой джигитовки, которые позволяют максимально эффективно атаковать противника и уклоняться от оружия врага».
Процитировал Ф. Наков и слова другого автора – Попко И. Д. «Терские казаки со стародревних времён», который отметил, что «Седло и вся конская принадлежность доведены были до высшей степени уютности и легкости: ни одного громоздкого и бесполезного убора или украшения. Седеличко черкасское» славилось в казачьих песнях по действительной заслуге. На каждой вещи и вещице лежала печать тонкого вкуса, изящной простоты, правильности, соразмерности, экономии. Ни ярких восточных цветов и турецкой мешковатости в одежде, ни татарской пестроты в украшениях – во всем скромная щеголеватость, вызывающая ловкость, статность и мужественная грациозность. Такую одежду, такое снаряжение переняли гребенские казаки от кабардинцев еще в первом своем поколении. С одеждой и снаряжением они усвоили военное воспитание адыгов, их игры и скачки, боевую гимнастику, выправку и все приёмы, и турдефорсы блестящего адыгского наездничества. В свою очередь они послужили примером и образцом для других поселившихся на Кавказской линии казаков, и по ним создался этот особый, единственный в своем роде, тип казачества – Кавказское линейное казачье войско, которому приносили дань удивления и великобританские и венгерские кавалеристы».
– Жаль, подумал я, что Екатерина II не услышала восхищений французского историка, военного и посла Франции Филиппа де Сегюра в адрес кабардинского войска и в особенности кавалерии, и все же решилась на возвещение крепости в Моздоке.
А было чем восхититься! Переводя на современный язык, Феликс Наков рассказывал в интервью «Предположим что шаг равен 70 см., и конь на галопе скачет со скоростью 50 км/ч. Тогда дистанция, когда достается ружье равна 14 м., а скорость, если ее перевести в м/с равна 13,89 м/с. Таким образом, указанная дистанция преодолевается за время чуть – чуть более секунды. То есть доставание ружья, выстрел в противника, переброс ружья через плечо, обнажение шашки и нанесение удара происходит за время менее полутора секунд. Даже если предположить, что скорость всадника в два раза ниже (~ 25 км/ч), все эти действия происходят за время меньше, чем 2,5 секунд».
Наков подошёл к манекену в черкеске и продолжил: «В это время формируется классический адыгский воинский костюм с интегрированными к одежде элементами снаряжения и к огнестрельному оружию: газырницы и подгазырные кармашки для ношения газырей – отмеренных доз пороха, натруски с порохом и кремневых пластинок для замков кремневых ружей и пистолетов. В России с первой трети XIX века он получает название «черкеска». Процитировал слова Султан Хан–Гирея, относящиеся к началу 30 – х годов XIX века: «Цей – главный кафтан, суконный, или так называемая русскими черкеска, имеет на груди от шестнадцати до двадцати четырех патронниц. Мужская одежда у черкес красотою и удобностью превосходит все одеяния мне известные не только в Азии, но даже и в Европе. Оружие у черкес также превосходно и отличается не богатством, но и ловкостью, удобностью, вкусом обделки и добротностью».
Журналисту Штыбину Наков так же рассказал о том, что приказом военного министра №256 от 27 ноября 1861 года в Терской и Кубанской казачьих войсках верхнюю одежду повелено именовать не мундирами, а черкесками. В исторической летописи шашка отмечена прежде всего как казачье (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) оружие, и, по сей день оставаясь неотъемлемой деталью традиционной культуры российского казачества, элементом старинного казачьего костюма.
Романовы – Михаил Николаевич (сын Николая I), Николай II, цесаревич Алексей, брат Николая II – Михаил Александрович носили черкеску.
Завершая интервью, руководитель музея снова процитировал двоюродного брата князя Таврического из далёкого 1784 года: «…до ста разных народов во всем подражают не токмо во нравах, но во образе жизни, и во образе одежды, кабардинцам».
Да, на фоне Феликса Накова, который столько знал, умел и виртуозно владел шашкой, я был худшим из кабардинцев. Не знаю как я смотрелся в глазах Кургоко Атажукина, но мне было стыдно.
После просмотра видео, обращаясь к Атажукину сказал: – После Русско–Кавказской войны нам – черкесам запретят носить огнестрельное оружие и черкесские шашки, но не будет запрета носить кинжал – черкесскую «къамэ». Черкесский кинжал будут носить как элемент национального костюма до середины XX столетия, а про то, что он станет украшать стены домов. – что кинжал станет сувенирной вещицей я умолчал.
– Ничего, сынок, ещё научишься, было бы желание. – утешил меня он.
– Я хотел бы рассказать об этом парне, который стоял с Феликсом Наковым. – обратился к Кургоко. – Его зовут Виталий Штыбин, он русский, но знает историю моего народа лучше, чем 95 % адыгов.
Я не знал как объяснить Кургоко Атажукину, что у Виталия Штыбина канал на youtube «Этанографика», что он исследователь и пропагандист истории и культуры адыгского народа. Он приглашает специалистов, этнографов, историков, выступает с докладами об истории адыгского народа даже за рубежом, с огромным интересом изучает историю народов Кавказа, но внимательнее относится к истории адыгов. Благодаря ему мы многое узнали о нашем прошлом.
– Как так? Разве такое возможно? Это я не к тому, что плохо, что русский парень знает историю адыгов. Мне даже удивительно и приятно. Я расстроен тем, что адыги плохо знают свою историю. Что за день сегодня выдался?!
После небольшой паузы Кургоко Атажукин спросил: – Я все с большим интересом посмотрел, но всё же не понимаю как так могло получиться, что мы проиграли эту войну.
– Чтобы ответить на этот вопрос позвольте мне показать видео. – обратился к нему.
Я показал ему несколько видео, где казаки в черкесках упражняются с шашками.
По лицу было понятно, что Кургоко заинтригован и был в некотором недоумении. – Вроде черкеска и не черкеска, немного иначе сшита, под гармонь, но не наша музыка, не кабардинская. Не пойму в чём дело? – спросил он.
– Чтобы победить черкесов, наши противники переняли весь наш накопленный веками боевой опыт. Русская армия и казачьи войска позаимствуют всё от вооружения до формы одежды и приемов боя. Ведь война шла не один год, а более 100 лет. И не только у черкесов будут шашки, кинжалы, сёдла и кабардинские скакуны, черкеска, бурка, папаха, газыри. Казаки начнут готовить своих детей, как готовили и черкесы своих мальчиков с детства к воинской службе. Они научатся и другому черкесскому приему «шук1апсэ» – это когда воин спрыгивает со своего седла на землю, молниеносно бросает кинжал в грудь лошади врага, запрыгивает на свое седло, становится прямо во весь рост, ударяет противника, и это все происходит тогда, когда лошадь продолжает двигаться галопом на большой скорости. Эту тактику опишет воевавший на Кавказе поэт М. Ю. Лермонтов в своем произведении «Измаил–бей»:
«Но отдохнуть черкесы не дают;
То скроются, то снова нападут.
Они, как тень, как дымное виденье,
И далеко и близко в то ж мгновенье.
Будут у него еще другие строчки:
Горят аулы; нет у них защиты,
Врагом сыны отечества разбиты,
И зарево, как вечный метеор,
Играя в облаках, пугает взор.
Как хищный зверь, в смиренную обитель
Врывается штыками победитель;
Он убивает старцев и детей,
Невинных дев и юных матерей
Ласкает он кровавою рукою
– Если хотите, то могу рассказать кому посвящена поэма «Изамил–бей». – обратился с Кургоко Атажукину.
– Хочу, сынок, хочу. – ответил он.
– Эту поэму русский поэт Михаил Лермонтов посвятил Вашему правнуку – Измаил–бею Атажукину (ХьэтIохъущыкъуэ Исмел). У Вашего сына Магомета родится сын – Темрюк. Измаил–бей Темрюко Аджи Гиреев – будущий внук Вашего сына Магомета. Если хотите, могу показать Вам короткий фильм, посвященный ему? – обратился к нему.
Он был озадачен и одновременно встревожен. Мало кто хочет знать будущее, если это будущее ничего хорошего не сулит.
– У меня волосы стоят дыбом. Надеюсь, что мой потомок не посрамил меня. – был его ответ.
– Можете быть в этом уверены. Он приложил массу усилий, чтобы защитить кабардинский народ. – ответил ему.
– Тогда покажи. – коротко ответил Кургоко.
Это было короткое видео длиной в пять минут, которое начиналось с титрами: «Литературная Кабардино–Балкария. Антология. Просветители», выпущенное в 2016 г ВКТРК КБР. Из уст ведущего он услышал слова не знакомого ему своего потомка из будущего, его судьбе, служению большой и малой Родине, а закадровый женский голос поведал о судьбе, карьере и таинственной смерти его правнука.
Кургоко узнал о том, что его правнук Измаил–бей в подростковом возрасте был отравлен в Санкт–Петербург, где и получил он не только блестящее военное образование, но и к своим кабардинскому и русскому добавил иностранные языки: французский, турецкий, арабский, татарский. Его правнук вошёл в историю не только как один из образованнейших сынов Кабарды, но и Российской империи. Как и потомки князя Идара, вошедшие в историю как князья Черкасские, правнук Кургоко Атажукина представлял и сражался за интересы России в русско–турецкой войне 1787 – 1791 годов. После русско–турецкой войны Измаил–бея представят князю Г. А. Потемкину–Таврическому, позже он станет участником штурма турецкой крепости Очаков и за боевые заслуги из секунд–майора переведут в премьер–майоры. Далее его представят императрице Екатерине II, которая одарит его медалью с бриллиантом. Также вместе с А. В. Суворовым он станет участником боев при взятии крепости Измаил, за что будет награжден орденом Св. Георгия IV степени.
В 1794 г он будет отправлен на малую родину – в Кабарду с поручением по управлению горцами.
И услышал Кургоко слова своего будущего потомка через закадровый женский голос, о любви к своей родине, о стремлении и всего себя, и все свои силы отдать на благо родного кабардинского народа: «Пройдем мимо всего, что до меня лично касающееся, ибо мое блаженство нахожу только в пользе и спокойствии моего любезного отечества, для выгоды которого я вырвался из круга своего семейства, оставил выгоды от преимущества моей знаменитой между соотечественниками природы, оставил свободу, в тогдашней молодости обещавшей мне все приятности в жизни, оставил, говорю, всё то, дабы видеть и познать народы, где просвещение и наука очистили от буйства человека и произвели законы, полезные и выгодные для всех и каждого. Я желал для благополучия моих соотечественников уподобить себя пчеле, дабы из всего извлечь полезное и перенести оное в любезное мое отечество. Так, почтенные владельцы, узденья и народы, я, претерпя для вас все неудовольствия по разлуке с вами, со мною случившейся, почитал себя счастливым, надеясь окончить жизнь свою посреди вас и служить обществу полезными моими опытами». Вместе с тем, он высказывает беспокойство по поводу того, в каком состоянии застал свой народ. «Так я возвратился, и нахожусь здесь посреди вас. Но что я нашёл, о боже! И ты во главе своем попустил мне увидеть моё любезное отечество на краю гибели! Куда девалась слава кабардинского народа? Почтенные владельцы, где ваши преимущества и знатность породы? Узденья, где справедливая ревность и усердие к вашим владельцам и попечение о славе народа, которыми предки ваши похвально отличались? Мы видим всё и чувствуем потерять даже и нашу свободу. А таковому несчастию, я смею сказать, мы сами причиной, потому что между нами, даже единокровными, нет никакого союза. А оттого и во всем народе нет единодушия».
Кургоко Атажукин смотрит то на видео, то на меня, но не спрашивает. Он сдержан, хотя пребывает в недоумении.
Из видео он узнает, что его правнук старается донести до русского царя губительность карательных операций относительно его кабардинского свободолюбивого народа, и, что одновременно он пытается донести до кабардинцев, что нет иного выхода, как присоединение к Российской империи.
Закадровый женский голос читает строки письма, обращенного к генералам царской армии: «Черкесы, как и все народы у коих законы основаны на обычаях и преданиях из рода в род переходящих, отменно привязаны к своим корням постановлениями. Они с трудом потерпят какую – либо в них перемену. Да и вероятно, что местоположения ими занимаемое, коим охраняется их вольность, немало действует на дух их независимость знаменующей. Усмирить силой дух горских жителей никогда возможности не будет. Примеры многих горских народов, кои силой нигде покорены не были, довольных тому руководством служить не могут».