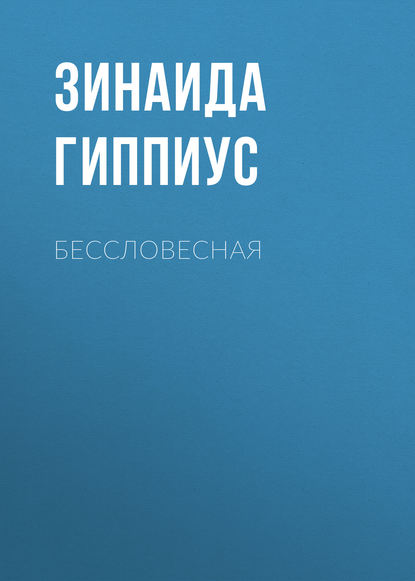По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Бессловесная
Год написания книги
1912
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Куда? Барыня-то где? Дома?
– Дома, должно, где ж им быть. Давно не заходили, вот и письма им какие – я на буфет в столовой кладу. Не велели отсылать. Я, говорит, Васса, либо Феню пришлю, либо сама как-нибудь.
Я увидал на буфете две моих открытки, одну с извещением о приезде.
– Значит, барыня и не жила тут? – спросил я странно.
– Нет, они у себя, зачем же. На Сергиевской, что ли. Феню зашли, взяли, потому чего ж ей даром при пустой квартире жить. Эко дело, а мне и не знатье, что нынче барин с барышней будут!
Она затопила печи, принялась варить кофе. Голодная Наташа закуталась в платок, вяло ходила по неубранным комнатам.
Когда я понял, в чем дело, – я даже рассмеялся. Да с чего я вообразил, что Лидуся будет жить в моей квартире, одна, а не «у себя» на Сергиевской, около матери? Прежняя голубая квартирка ее, где она, действительно, «у себя», – свободна. Взяла Феню, горничную, и живет. Ведь это же естественно, это просто. Она не писала об этом, думая, что я ничего другого и вообразить не могу. А я вообразил. Для меня, значит, естественно неестественное. Мне больно, что Лида поступает просто, я хочу каких-то непростых вещей. От природы, что ли, я глуп? Или только… люблю ее?
В этих бесплодных мыслях я как-то оцепенел на весь день и даже не двинулся, чтобы черкнуть слово Лиде о нашем приезде.
К вечеру в доме немножко наладилось. Васса призвала на помощь беременную швейцариху; пообедали, Наташа рано легла.
Я подумал: зачем писать? Лида, наверно, живет не у матери, а именно в голубой квартирке своей. Туда я и сам могу поехать. Отчего не поехать?
Отправился. Темный, знакомый дом на Сергиевской. Как я давно здесь не был! Думал, что и никогда не буду.
Молча пройдя мимо важного швейцара, я поднялся во второй этаж.
Феня, принаряженная (никогда она у нас таких фартуков не носила!), изумилась не хуже Вассы.
– Ах, барин! Да когда же изволили приехать? А барыня в театре, вот беда!
– В театре? Ну что ж, Феня, я подожду. Нынче только приехал. Барыня моего письма не получила.
– Пожалуйте, пожалуйте, – говорила проворная Феня, ведя меня в знакомую гостиную и зажигая по дороге электричество. – Верно, письмо-то было на ту квартиру, не удосужилась я сбегать, беда, право!
Я опустился в низкое, темно-голубое кресло, недалеко от догорающего камина. Как здесь хорошо, скромно и уютно. Ковер во всю комнату, первые гиацинты, розовые, слабо пахнут из уголка. На письменном столе, небольшом, так все аккуратно прибрано. И портреты… Чьи? Это мать. А это мой. Старый, но хороший. «Дома» я его у Лиды не видал. То есть у меня дома; здесь я не дома. Здесь я – у нее.
Тихо. Постукивают каминные часы. Рядом, в столовой, осторожно звенит посудой Феня. Чай, верно, накрывает.
Долгое, долгое время. Но мне не скучно. Не то я дремлю, не то просто, так; ни о чем не думаю. Ничего не хочу. Мне удобно в голубом кресле. А что будет… ведь не знаю я, не могу даже угадать, что будет.
Позвонили. Пробежала Феня. Я очнулся и встал.
Вот быстрый говорок Фени в передней и – «ее» голос. Сейчас она войдет.
Вошла… Белая вся, что-то блестящее, белое переливается на плечах, точно ледяные блестки.
– Ах, Ники! Да когда же ты приехал? Долго ждал меня?
Обняла нежно, открыто, я чувствовал ее холодные с мороза щеки.
– Так ты долго ждал? Она обернулась.
– Вот… Позвольте вас познакомить. Иван Сергеевич Торн.
Я не заметил сначала, что она не одна. За ней в комнату вошел довольно приятного вида молодой человек в смокинге, очень скромный и приличный.
– Это верный мой поклонник, – сказала Лида, смеясь. – И театральный товарищ. То есть оперный, вернее. Ибо драмы он не признает. А «Хованщина», Иван Сергеевич, меня не вполне удовлетворила. Нет, нет, как хотите…
Мы вошли в столовую. Лида разливала чай, блестя белыми льдинками своего платья. Говорила весело, расспрашивала меня об итальянской погоде, о том, как я ехал. С Иваном Сергеевичем спорила о сегодняшнем спектакле.
Торн через какие-нибудь полчаса вежливо поднялся, чтобы уйти. Лидуся его не удерживала, простилась приветливо и просто.
– Погоди, я надену халат, – сказала она мне, уходя куда-то. – Посидим еще, если не устал с дороги.
Я вернулся в гостиную и сел в то же кресло.
– У тебя хорошо, – сказал я вяло, когда пришла Лида.
– Правда? Очень уютно. Ники, вот досада, что я тебя не встретила. Я бы вам приготовила…
Я глядел на нее молча. И вдруг, точно ворочая непомерную тяжесть, сам не понимая, зачем и что я спрашиваю, грубо и глупо сказал:
– Этот… как его? Торн… Он твой любовник? Она широко раскрыла глаза. Взор ее все холодел.
– Я тебя не узнаю, Ники, – произнесла она печально. – Что это ты спрашиваешь?
– Ну, да, спрашиваю… И буду спрашивать… Ты мне ответишь! Опять молчишь? Опять?
– И не думаю молчать. Ты, верно, устал, расстроился чем-нибудь… Брось, Ники…
У меня дыханье схватывало. Медленно поднялся со стула. Лидуся продолжала между тем:
– Боюсь, что тебя расстроила наша неудачная встреча. Квартиру ты нашел неубранной, нежилой. Первое впечатление – и такое дурное. Но как я могла знать? Через несколько дней я перееду к тебе, если хочешь, долго ли собраться? Я теперь хорошо отдохнула…
– А-а, отдохнула! Очень! Очень рад! И любовника возьмешь с собой? Говори, на вопрос отвечай! На вопрос!
– Ники, Ники, да опомнись! – проговорила Лида, пытаясь взять меня за руки. – При чем любовники, при чем твои вопросы! Разве ты можешь об этом спрашивать? Ведь ты же мне давно не любовник, ведь смешно и стыдно, если б мы вдруг стали целоваться, как любовники! Как ты простых вещей не понимаешь! Стыдно же целоваться тогда, когда этого не непременно, не во что бы то ни стало не хочется. Это было у нас – и прошло, ты не любовник. Зачем же ты заводишь об этом разговор? Если я скажу, что нет у меня любовника, ну, что тебе?
Я слышал – не слышал, понимал ли, не знаю. У меня дед был кабатчик. Самый настоящий кабатчик, деревенский кулак. Дед во мне проснулся, высунулся из меня, и, уже не помня себя, я заорал, как мужик, заорал, корчась от боли и гнева:
– К дьяволу! Я тебе не любовник, не любовник? Да кто же я тебе, наконец? Не муж, не любовник, не брат, не товарищ, – товарищ! Кто же? Тряпка грязная! На кой черт я тебе нужен? А не нужен, так говори! Будешь ты отвечать, проклятая?
Вырывая руки, за которые она еще держалась, я толкнул ее. Без слова, она поспешно выбежала вон. Я кинулся за ней. Но у дверей остановился. Опомнился. Не сразу, медленно-медленно остывало у меня внутри, слабела какая-то струна, только дышать было трудно: вот она, знакомая, тяжелая и мягкая подушка, тихая, из-под нее не уйдешь; тихо слепни, глохни, тихо мертвей; не бунтуй – бесполезно.
Не мыслями, а одним представлением подумал я в эту краткую минуту у дверей, подумал о том, как ничего не случилось, как она спокойно переедет ко мне на Васильевский остров, какая будет все та же у нас жизнь: у меня – мертвеющая от нее, у нее – с «отдыхами» от меня, и опять Наташа, и опять всё, всё… Это она, Лида, и омертвила мою жизнь… Нет, не она, а любовь наша… Любовь? Не знаю… Не чувствую ничего. Только бессловесность. Только удушье…
И вдруг тут же словно из-за угла, нелепо, жалобно выскочила совсем другая мысль: а может, еще ничего? Может, все хорошо, все еще уляжется, обойдется… Наташу, может, и вправду в институт отдать, а? Тогда Лида…
До сих пор не понимаю, как это все успел я продумать и прочувствовать в краткую минуту, пока Лида не вернулась.
Она очень скоро вернулась и держала в руках рюмочку с каплями. За каплями-то и ходила.