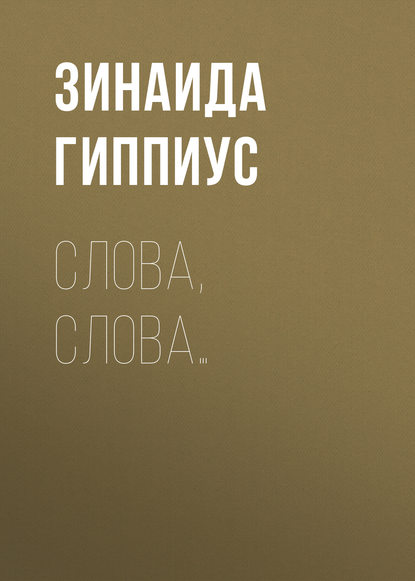По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Слова, слова…
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Слова, слова…
Зинаида Николаевна Гиппиус
«В редакции был приемный день.
Уже два раза отворялась боковая дверь в кабинете, и угрюмый лакей с недоверчивым лицом приносил чай для сотрудников. Уже очень давно редактор сидел за своим длинным столом и сосредоточенно разбирал кипу бумаг…»
Зинаида Гиппиус
Слова, слова…
I
В редакции был приемный день.
Уже два раза отворялась боковая дверь в кабинете, и угрюмый лакей с недоверчивым лицом приносил чай для сотрудников. Уже очень давно редактор сидел за своим длинным столом и сосредоточенно разбирал кипу бумаг.
Но он, очевидно, утомился, потому что порою вместо рукописей развлекал свое внимание красивыми и новыми письменными принадлежностями редакторского стола. И чернильница, и пресс-папье, и ножи для разрезыванья листов – действительно были изящны. Главное – их будто нарочно сделали для редакции. Казалось, ни на каком другом столе они не были бы так у места.
Сотрудники и знакомые разместились на стульях у противоположной стены. Неподвижные темные фигуры выделялись на фоне обоев. Изредка слышался шелест перевернутой страницы, вздох или покашливанье.
Молодое и веселое лицо редактора было чинно и значительно. Секретарь что-то вполголоса объяснял посланному из типографии. Пробило половина четвертого. До конца приема оставалось еще полчаса.
В дальнем углу кабинета, у окна, тихо разговаривали два человека.
– Ну как я рад, что мы с вами объяснились, – сказал один из них. – Я всегда надеялся, что стоит нам только сойтись да поговорить по душе – и все окажется вздором.
– Конечно, я тоже предполагал, что это сплетня, – отвечал другой. – Но согласитесь все-таки, что встречаться мне с вами было неудобно…
Первый, Иван Сергеевич Мансуров, утвердительно и радостно покачал головой. Его доброе круглое лицо так и сияло от восторга. Уж очень он был доволен примирением.
Стоило взглянуть раз на Ивана Сергеевича, чтобы сейчас же понять всю его доброту.
Невысокого роста, полный, еще очень молодой, с редкой черной бородкой и вздернутым носом – он всегда казался счастливым и радостным. У него были детски-приветливые серые глаза и розовые щеки. Говорил он слегка пришепетывая.
Иван Сергеевич не сотрудничал в журнале, но в редакцию ходил нередко. Он с давних пор был в литературных кружках и почти всех писателей считал своими лучшими друзьями.
Сам он с увлечением занимался политической экономией и работал очень много. Кто-то сказал про него: вот человек, все хорошие качества в нем можно предположить – и добр, и нежен, и трудолюбив, но уж таланта никак не заподозришь.
– Всегда мы с вами были друзьями, сколько лет, – продолжал Иван Сергеевич, пожимая руку собеседника. – А тут вдруг шесть месяцев не видались из-за глупости какой-то. У меня за это время сколько перемен! Брошюрку издал, за границу собираюсь…
– Да. Слышал. А как здоровье Наталии Николаевны?
– Спасибо. Вы хоть бы зашли, батюшка… И прежде-то вас, бывало, не затащишь… Я, право, начал думать, что вы против Наталии что-нибудь имеете!..
– Ах, оставьте, просто я был очень занят ту зиму и никуда не выходил, а потом вот эта история… Я к вам зайду.
– Приходите сегодня, а? Никого не будет, поболтаем… И с Наташей получше познакомитесь. Она тоже у меня презастенчивая – новых людей боится.
– Так вы думаете, что я из застенчивости? Чего же мне бояться? – холодно проговорил собеседник.
– Нет, нет, батюшка, это я так сказал, про Наташу… Вы приходите только.
– Ничего, если попозже? У меня до девяти дело есть.
– Когда угодно – мы дома весь вечер. Я вас жду А теперь пойдемте-ка: поздно уж. Нам до Невского по дороге?
Иван Сергеевич и его собеседник, Дмитрий Николаевич Богданович, подошли проститься с редактором.
Редактор очень любезно и очень долго жал им руки и просил прийти в другой приемный день.
– Так моя новелла идет в следующей книжке, Анатолий Александрович? – спросил Богданович.
– Да, да, непременно, будьте покойны, я постараюсь, если представится хоть какая-нибудь возможность, мы это устроим. У нас, видите ли, роман теперь большой начинает печататься… госпожи Муриной, некой… Типов, знаете, нет, но персидские нравы удивительно хорошо описаны… Я собственно для нравов…
Редактор точно обрадовался случаю поговорить.
– А с вашей новеллой мы все-таки устроим… Если будет хоть малейшая возможность… Значит, до понедельника, господа? Милости просим, пожалуйста…
II
В начале седьмого часа вечера Богданович вышел из дома и отправился на Васильевский остров. Он торопился, потому что утром получил от Людмилы Васильевны записку такого содержания:
«Мой дорогой, мой лучший и единственный друг, на вас вся моя надежда! Приходите сегодня вечером без четверти семь, не позже, ради Христа, не позже, вы мне необходимы, приходите, от этого зависит многое! Ваша навек Л.».
Богданович, вероятно, торопился бы еще больше, если бы не так хорошо знал Людмилу Васильевну и если б не получал от нее записок, подобных этой, раза два в неделю. Людмила Васильевна была очень миловидная брюнетка, с виду тихая и кроткая, но на самом деле такая странная, восторженная и чувствительная, что даже Богдановича иногда ставила в тупик.
Он познакомился с нею и с ее мужем год тому назад, открыл в ней талант, и она, под его руководством, сейчас же стала писать новеллы и стихотворения в прозе.
Богданович всегда находил их очень недурными – «поэтичными» – и старался пристроить в какой-нибудь журнал, хотя порою это было и нелегко.
Богданович сам не знал, что привлекает его в Людмиле Васильевне. Как женщина она ему совсем не нравилась.
На все ее восторженные и пылкие речи (она клялась, что «безумно любит его и будет любить до гробовой доски») он отвечал, что весьма привязан к ней, уважает ее талант, но не любит ее.
– Я любить вообще не могу, – прибавлял он грустно и торжественно, – мое сердце – не для любви. Но между нами есть связь прочная и ненарушимая – искусство. Разве это не лучше?
И Людмила Васильевна была довольна. Она так и смотрела на Богдановича, как на человека, неспособного любить, и ровно ничего от него не требовала. Ей было достаточно и своих чувств, очень изменчивых, правда, но зато каждый раз одинаково пылких и сильных.
В один серый и скучный день Богдановичу пришла неожиданная мысль: может быть, его привязывает к Людмиле; Васильевне не желание ей помочь, не талант ее, который он сам же ей приписал, а другое, более эгоистическое чувство?
Она пишет, работает в том же направлении, как и он сам, а между тем ему так ясно, что она никогда не станет его соперницей. Может быть, он невольно сравнивает ее новеллы и фантастические повести со своими и наслаждается сознанием, насколько его вещи лучше?
Эта мысль испугала и раздосадовала его. Он две недели не ходил к Людмиле Васильевне.
Но мало-помалу мысль исчезла, впечатление сгладилось – и прежние отношения установились между учителем и ученицей.
III
«Кто ее знает, – думал Богданович, входя в переднюю. – Может быть, и в самом деле сегодня что-нибудь важное случилось».
Зинаида Николаевна Гиппиус
«В редакции был приемный день.
Уже два раза отворялась боковая дверь в кабинете, и угрюмый лакей с недоверчивым лицом приносил чай для сотрудников. Уже очень давно редактор сидел за своим длинным столом и сосредоточенно разбирал кипу бумаг…»
Зинаида Гиппиус
Слова, слова…
I
В редакции был приемный день.
Уже два раза отворялась боковая дверь в кабинете, и угрюмый лакей с недоверчивым лицом приносил чай для сотрудников. Уже очень давно редактор сидел за своим длинным столом и сосредоточенно разбирал кипу бумаг.
Но он, очевидно, утомился, потому что порою вместо рукописей развлекал свое внимание красивыми и новыми письменными принадлежностями редакторского стола. И чернильница, и пресс-папье, и ножи для разрезыванья листов – действительно были изящны. Главное – их будто нарочно сделали для редакции. Казалось, ни на каком другом столе они не были бы так у места.
Сотрудники и знакомые разместились на стульях у противоположной стены. Неподвижные темные фигуры выделялись на фоне обоев. Изредка слышался шелест перевернутой страницы, вздох или покашливанье.
Молодое и веселое лицо редактора было чинно и значительно. Секретарь что-то вполголоса объяснял посланному из типографии. Пробило половина четвертого. До конца приема оставалось еще полчаса.
В дальнем углу кабинета, у окна, тихо разговаривали два человека.
– Ну как я рад, что мы с вами объяснились, – сказал один из них. – Я всегда надеялся, что стоит нам только сойтись да поговорить по душе – и все окажется вздором.
– Конечно, я тоже предполагал, что это сплетня, – отвечал другой. – Но согласитесь все-таки, что встречаться мне с вами было неудобно…
Первый, Иван Сергеевич Мансуров, утвердительно и радостно покачал головой. Его доброе круглое лицо так и сияло от восторга. Уж очень он был доволен примирением.
Стоило взглянуть раз на Ивана Сергеевича, чтобы сейчас же понять всю его доброту.
Невысокого роста, полный, еще очень молодой, с редкой черной бородкой и вздернутым носом – он всегда казался счастливым и радостным. У него были детски-приветливые серые глаза и розовые щеки. Говорил он слегка пришепетывая.
Иван Сергеевич не сотрудничал в журнале, но в редакцию ходил нередко. Он с давних пор был в литературных кружках и почти всех писателей считал своими лучшими друзьями.
Сам он с увлечением занимался политической экономией и работал очень много. Кто-то сказал про него: вот человек, все хорошие качества в нем можно предположить – и добр, и нежен, и трудолюбив, но уж таланта никак не заподозришь.
– Всегда мы с вами были друзьями, сколько лет, – продолжал Иван Сергеевич, пожимая руку собеседника. – А тут вдруг шесть месяцев не видались из-за глупости какой-то. У меня за это время сколько перемен! Брошюрку издал, за границу собираюсь…
– Да. Слышал. А как здоровье Наталии Николаевны?
– Спасибо. Вы хоть бы зашли, батюшка… И прежде-то вас, бывало, не затащишь… Я, право, начал думать, что вы против Наталии что-нибудь имеете!..
– Ах, оставьте, просто я был очень занят ту зиму и никуда не выходил, а потом вот эта история… Я к вам зайду.
– Приходите сегодня, а? Никого не будет, поболтаем… И с Наташей получше познакомитесь. Она тоже у меня презастенчивая – новых людей боится.
– Так вы думаете, что я из застенчивости? Чего же мне бояться? – холодно проговорил собеседник.
– Нет, нет, батюшка, это я так сказал, про Наташу… Вы приходите только.
– Ничего, если попозже? У меня до девяти дело есть.
– Когда угодно – мы дома весь вечер. Я вас жду А теперь пойдемте-ка: поздно уж. Нам до Невского по дороге?
Иван Сергеевич и его собеседник, Дмитрий Николаевич Богданович, подошли проститься с редактором.
Редактор очень любезно и очень долго жал им руки и просил прийти в другой приемный день.
– Так моя новелла идет в следующей книжке, Анатолий Александрович? – спросил Богданович.
– Да, да, непременно, будьте покойны, я постараюсь, если представится хоть какая-нибудь возможность, мы это устроим. У нас, видите ли, роман теперь большой начинает печататься… госпожи Муриной, некой… Типов, знаете, нет, но персидские нравы удивительно хорошо описаны… Я собственно для нравов…
Редактор точно обрадовался случаю поговорить.
– А с вашей новеллой мы все-таки устроим… Если будет хоть малейшая возможность… Значит, до понедельника, господа? Милости просим, пожалуйста…
II
В начале седьмого часа вечера Богданович вышел из дома и отправился на Васильевский остров. Он торопился, потому что утром получил от Людмилы Васильевны записку такого содержания:
«Мой дорогой, мой лучший и единственный друг, на вас вся моя надежда! Приходите сегодня вечером без четверти семь, не позже, ради Христа, не позже, вы мне необходимы, приходите, от этого зависит многое! Ваша навек Л.».
Богданович, вероятно, торопился бы еще больше, если бы не так хорошо знал Людмилу Васильевну и если б не получал от нее записок, подобных этой, раза два в неделю. Людмила Васильевна была очень миловидная брюнетка, с виду тихая и кроткая, но на самом деле такая странная, восторженная и чувствительная, что даже Богдановича иногда ставила в тупик.
Он познакомился с нею и с ее мужем год тому назад, открыл в ней талант, и она, под его руководством, сейчас же стала писать новеллы и стихотворения в прозе.
Богданович всегда находил их очень недурными – «поэтичными» – и старался пристроить в какой-нибудь журнал, хотя порою это было и нелегко.
Богданович сам не знал, что привлекает его в Людмиле Васильевне. Как женщина она ему совсем не нравилась.
На все ее восторженные и пылкие речи (она клялась, что «безумно любит его и будет любить до гробовой доски») он отвечал, что весьма привязан к ней, уважает ее талант, но не любит ее.
– Я любить вообще не могу, – прибавлял он грустно и торжественно, – мое сердце – не для любви. Но между нами есть связь прочная и ненарушимая – искусство. Разве это не лучше?
И Людмила Васильевна была довольна. Она так и смотрела на Богдановича, как на человека, неспособного любить, и ровно ничего от него не требовала. Ей было достаточно и своих чувств, очень изменчивых, правда, но зато каждый раз одинаково пылких и сильных.
В один серый и скучный день Богдановичу пришла неожиданная мысль: может быть, его привязывает к Людмиле; Васильевне не желание ей помочь, не талант ее, который он сам же ей приписал, а другое, более эгоистическое чувство?
Она пишет, работает в том же направлении, как и он сам, а между тем ему так ясно, что она никогда не станет его соперницей. Может быть, он невольно сравнивает ее новеллы и фантастические повести со своими и наслаждается сознанием, насколько его вещи лучше?
Эта мысль испугала и раздосадовала его. Он две недели не ходил к Людмиле Васильевне.
Но мало-помалу мысль исчезла, впечатление сгладилось – и прежние отношения установились между учителем и ученицей.
III
«Кто ее знает, – думал Богданович, входя в переднюю. – Может быть, и в самом деле сегодня что-нибудь важное случилось».