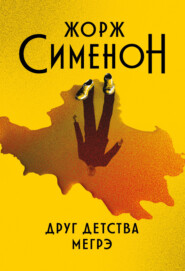По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Три комнаты на Манхэттене
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не понимаю, почему ты не ходишь, как все, в школу!
– Потому что повальная скарлатина.
– Скарлатина… скарлатина… – пробурчала она.
И тут игра пошла уже всерьез. Я твердо решил увидеть отца Альбера, но не менее твердо решил помешать тому, чтобы его увидела тетя Валери.
А она поняла, что я что-то от нее скрываю, и старалась поймать меня врасплох.
– На что это ты смотришь? – неожиданно спрашивала она.
– Ни на что… На улицу.
– Но на улице ничего такого не происходит.
– А я вот смотрю.
Тогда она поднималась с кресла, волоча ноги в войлочных туфлях, подходила к окну и окидывала взглядом дом, в котором жили Рамбюры.
– С каких это пор они стали прицеплять на окно розовую тряпку?
– С тех пор, как прохожие стали туда глядеть.
Я хорошенько не понял, что она хотела сказать, когда добавила:
– Как знать?.. Женщины такие дуры!..
Может, стоит подстеречь мадам Рамбюр на улице, когда она, дождавшись темноты, пойдет к Тати за покупками? Быстро подойти и посоветовать быть поосторожней, потому что моя тетя Валери…
– А твоя мать с ней знакома?
– С кем?
– С мадам Рамбюр… Я полагаю, это ее покупательница?
– Возможно.
Мое «возможно» намеренно прозвучало весьма загадочно. Теперь-то я отдаю себе отчет, что сделал все, дабы разжечь тетино любопытство и дать пищу ее подозрениям. Если она хоть на час забывала о Рамбюрах, я не выдерживал, нарочно наклонялся и, будто чем-то живо заинтересовавшись, прижимался носом к холодному стеклу.
– Что ты все на площадь смотришь? – с издевкой цедила она.
– Смотрю, как аптекарь ставни закрывает…
Два-три раза в полумраке мелькнул, вернее, мне показалось, что мелькнул знаменитый белый воротник с кружевами Альбера. Я видел также руки. Но я отдал бы все на свете, лишь бы увидеть лицо – лицо человека с фотографии.
– Убийцы всегда прячутся там, где никому не придет в голову их искать…
Теперь игра шла не час и не два, а целыми днями. У меня от нее тяжелела и пылала голова. Опять лил дождь, беспросветный черный дождь, не давая мне выйти на улицу. Кончилось тем, что я с тетей стал как бы обособленным от всего дома островком. У нас был свой язык, свои заботы, свои тайны. Мы друг друга ненавидели и почти в открытую друг за другом следили.
Я дошел до того, что дерзко заявил:
– Матушка никогда не бросит торговлю!
– Она тебе сказала?
– Нет, но я не желаю…
Я понимал, к чему это клонится. Смутно чувствовал, что теткин план таит опасность для нашего образа жизни, для нашей семьи и что опасность прежде всего угрожает матушке. Когда тетя затевала такой разговор – а она затевала его каждый день, это стало ее коньком, – матушка с натянутой улыбкой уклончиво отвечала:
– Со временем, конечно…
– Вот именно! Когда будешь в могиле…
Я весь кипел. Не мог простить отцу, что он не вмешивается. Где-то в районе Сент-Этьена забастовщики разгромили несколько лавок, и тетя ядовито шипела:
– Ждете, чтобы и вас ограбили?
А затем, возле окна полумесяцем, возле светившей красным пламенем керосиновой печи, мы с тетей возобновляли нашу игру. Она читала мне вслух газету, зорко наблюдая за выражением моего лица.
– «Не подлежит сомнению, что благонадежная часть населения крайне недовольна и даже обеспокоена безуспешностью ведущихся розысков. Чтоб человек, приметы которого известны, уже несколько дней ускользал от…»
Тетя вдруг прервала чтение. Огляделась по сторонам и, словно в пространство, спросила:
– В общем, у них такой же дом, как этот?
Я понял ход ее мысли.
– Но полиция…
Матушка поднималась по лестнице.
– На станцию прибыл заказанный тюк ширтинга… Вечером должна зайти старая клиентка, я ей обещала…
– Ты хочешь, чтобы я посидела в лавке?
– Да нет, тетя…
Нет уж, дудки! Чтобы разбежались все покупатели?
– Я позову мадемуазель Фольен, она привыкла… Да я за четверть часа управлюсь…
– Раз ты так держишься за свою лавку… – вздохнула тетя.
Отчего я уставился на матушку? Просто так, от нечего делать. Она постучала в стенку или, вернее…
Я застыл с напряженным лицом, у меня перехватило дыхание. Тетя заметила.
– Что с тобой?
– Потому что повальная скарлатина.
– Скарлатина… скарлатина… – пробурчала она.
И тут игра пошла уже всерьез. Я твердо решил увидеть отца Альбера, но не менее твердо решил помешать тому, чтобы его увидела тетя Валери.
А она поняла, что я что-то от нее скрываю, и старалась поймать меня врасплох.
– На что это ты смотришь? – неожиданно спрашивала она.
– Ни на что… На улицу.
– Но на улице ничего такого не происходит.
– А я вот смотрю.
Тогда она поднималась с кресла, волоча ноги в войлочных туфлях, подходила к окну и окидывала взглядом дом, в котором жили Рамбюры.
– С каких это пор они стали прицеплять на окно розовую тряпку?
– С тех пор, как прохожие стали туда глядеть.
Я хорошенько не понял, что она хотела сказать, когда добавила:
– Как знать?.. Женщины такие дуры!..
Может, стоит подстеречь мадам Рамбюр на улице, когда она, дождавшись темноты, пойдет к Тати за покупками? Быстро подойти и посоветовать быть поосторожней, потому что моя тетя Валери…
– А твоя мать с ней знакома?
– С кем?
– С мадам Рамбюр… Я полагаю, это ее покупательница?
– Возможно.
Мое «возможно» намеренно прозвучало весьма загадочно. Теперь-то я отдаю себе отчет, что сделал все, дабы разжечь тетино любопытство и дать пищу ее подозрениям. Если она хоть на час забывала о Рамбюрах, я не выдерживал, нарочно наклонялся и, будто чем-то живо заинтересовавшись, прижимался носом к холодному стеклу.
– Что ты все на площадь смотришь? – с издевкой цедила она.
– Смотрю, как аптекарь ставни закрывает…
Два-три раза в полумраке мелькнул, вернее, мне показалось, что мелькнул знаменитый белый воротник с кружевами Альбера. Я видел также руки. Но я отдал бы все на свете, лишь бы увидеть лицо – лицо человека с фотографии.
– Убийцы всегда прячутся там, где никому не придет в голову их искать…
Теперь игра шла не час и не два, а целыми днями. У меня от нее тяжелела и пылала голова. Опять лил дождь, беспросветный черный дождь, не давая мне выйти на улицу. Кончилось тем, что я с тетей стал как бы обособленным от всего дома островком. У нас был свой язык, свои заботы, свои тайны. Мы друг друга ненавидели и почти в открытую друг за другом следили.
Я дошел до того, что дерзко заявил:
– Матушка никогда не бросит торговлю!
– Она тебе сказала?
– Нет, но я не желаю…
Я понимал, к чему это клонится. Смутно чувствовал, что теткин план таит опасность для нашего образа жизни, для нашей семьи и что опасность прежде всего угрожает матушке. Когда тетя затевала такой разговор – а она затевала его каждый день, это стало ее коньком, – матушка с натянутой улыбкой уклончиво отвечала:
– Со временем, конечно…
– Вот именно! Когда будешь в могиле…
Я весь кипел. Не мог простить отцу, что он не вмешивается. Где-то в районе Сент-Этьена забастовщики разгромили несколько лавок, и тетя ядовито шипела:
– Ждете, чтобы и вас ограбили?
А затем, возле окна полумесяцем, возле светившей красным пламенем керосиновой печи, мы с тетей возобновляли нашу игру. Она читала мне вслух газету, зорко наблюдая за выражением моего лица.
– «Не подлежит сомнению, что благонадежная часть населения крайне недовольна и даже обеспокоена безуспешностью ведущихся розысков. Чтоб человек, приметы которого известны, уже несколько дней ускользал от…»
Тетя вдруг прервала чтение. Огляделась по сторонам и, словно в пространство, спросила:
– В общем, у них такой же дом, как этот?
Я понял ход ее мысли.
– Но полиция…
Матушка поднималась по лестнице.
– На станцию прибыл заказанный тюк ширтинга… Вечером должна зайти старая клиентка, я ей обещала…
– Ты хочешь, чтобы я посидела в лавке?
– Да нет, тетя…
Нет уж, дудки! Чтобы разбежались все покупатели?
– Я позову мадемуазель Фольен, она привыкла… Да я за четверть часа управлюсь…
– Раз ты так держишься за свою лавку… – вздохнула тетя.
Отчего я уставился на матушку? Просто так, от нечего делать. Она постучала в стенку или, вернее…
Я застыл с напряженным лицом, у меня перехватило дыхание. Тетя заметила.
– Что с тобой?