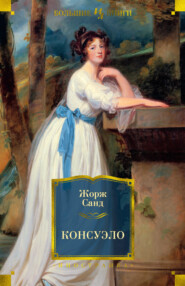По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Консуэло (I-LX)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Если это так, то ты себя же порочишь, – сказал Андзолето, – ведь я твой ученик. Однако надеюсь, – продолжал он по-венециански, – что у меня хватит таланта, чтобы смешать твои карты.
– Вы навредите только самому себе, – возразила Консуэло на том же наречии, – дурные намерения загрязняют сердце, а ваше сердце потеряет при этом гораздо больше, чем вы заставите меня потерять в сердцах других.
– Очень рад, что ты принимаешь мой вызов. Начинай же, прекрасная воительница! Как ни опускаете вы свое забрало, а я вижу в блеске ваших глаз досаду и страх.
– Увы! Вы можете прочесть в них лишь глубокое огорчение. Я думала, что смогу забыть, какого презрения вы достойны, а вы стараетесь мне это напомнить.
– Презрение и любовь зачастую отлично уживаются.
– В низких душах.
– В душах самых гордых, так было и будет всегда.
Так прошел весь обед. Когда перешли в гостиную, канонисса, желая, по-видимому, потешиться наглостью Андзолето, попросила его что-нибудь спеть. Он не заставил себя упрашивать и, ударив сильными пальцами по клавишам старого, дребезжащего клавесина, запел одну из тех залихватских песен, которыми оживлял интимные ужины Дзустиньяни. Слова были малопристойны, и канонисса не поняла их, но ее забавлял пыл, с каким пел Андзолето. Граф Христиан не мог не восхититься красивым голосом певца и необычайной легкостью исполнения и теперь простодушно наслаждался, слушая его. После первой песни он попросил Андзолето спеть еще. Альберт, сидя подле Консуэло, ничего, казалось, не слышал и не проронил ни слова. Андзолето вообразил, будто молодой граф раздосадован и сознает, что над ним наконец одержали верх. Он позабыл о своем намерении разогнать слушателей непристойными ариями и, убедившись, что, либо из-за наивности хозяев, либо из-за их незнания венецианского наречия, это совершенно напрасный труд, поддался соблазну покрасоваться и запел ради удовольствия петь; кроме того, ему хотелось показать Консуэло свои успехи. Он и в самом деле подвинулся вперед в тех пределах, какие были для него доступны. Голос его, быть может, потерял свою первоначальную свежесть, разгульная жизнь лишила его юношеской мягкости, зато теперь Андзолето лучше владел им и с большим умением преодолевал трудности, к которым его всегда влекло. Он пел хорошо и получил много похвал от графа Христиана, канониссы и даже капеллана, любителя виртуозных пассажей, не способного оценить манеру Консуэло, слишком простую и естественную, чтобы быть изысканной.
– Вы говорили, что у него нет таланта, – сказал граф, обращаясь к Консуэло, – вы слишком строги или слишком скромны в отношении своего ученика. Он очень талантлив, и наконец-то я вижу в нем что-то общее с вами.
Добрый Христиан хотел этим маленьким триумфом Андзолето загладить унижение, которое перенесла мнимая сестра из-за его выходок. Он усиленно подчеркивал достоинства певца, а тот слишком любил блистать, да и скверная роль, навязанная им самому себе, начала уже надоедать ему, и, заметив, что граф Альберт становится все более задумчив, Андзолето снова сел за клавесин. Канонисса, дремавшая обыкновенно при исполнении длинных музыкальных пьес, попросила спеть еще какую-нибудь венецианскую песенку, и на этот раз Андзолето выбрал более приличную. Он знал, что лучше всего ему удавались народные песни. Даже у Консуэло особенности венецианского наречия не звучали так естественно и отчетливо, как у этого сына лагун, прирожденного певца и мима.
Он так чудесно изображал то грубоватую вольность рыбаков Истрии[140 - Истрия – полуостров на юге Европы между Триестинским заливом и Адриатическим морем. До 1797 г. прибрежная полоса Истрии принадлежала Венеции.], то остроумную, удалую бесшабашность гондольеров Венеции, что невозможно было без живого интереса слушать его и смотреть на него. Его красивое, подвижное и выразительное лицо становилось то суровым и гордым, как у первых, то ласковым и насмешливо-веселым, как у вторых. Его безвкусный, кокетливый наряд, от которого за милю отдавало Венецией, еще усиливал впечатление и в данный момент не только не портил его, но, напротив, ему шел. Консуэло, вначале безразличная, вскоре вынуждена была притвориться холодной и рассеянной. Волнение все более и более охватывало ее. В Андзолето она узнавала всю Венецию, а в этой Венеции – всего Андзолето прежних дней, с его беспечным нравом, целомудренной любовью и ребяческой гордостью. Глаза ее наполнились слезами, а забавные пассажи Андзолето, смешившие других, будили в ее сердце глубокую нежность.
После народных песен граф Христиан попросил Андзолето исполнить духовные.
– О, что касается этих песнопений, я знаю все, какие только исполняются в Венеции, но они на два голоса, и если сестра – а она тоже их знает – не захочет петь со мной, то я не смогу исполнить желание ваших сиятельств.
Все тотчас стали упрашивать Консуэло. Она долго отказывалась, хотя ей самой очень хотелось петь. Наконец, уступая просьбам добрейшего Христиана, стремившегося примирить ее с братом и старавшегося показать, что сам он совершенно примирился с ним, она села подле Андзолето и с трепетом начала одну из длиннейших духовных песен на два голоса, разделенных на строфы по три стиха, которые в Венеции во время великого поста поются по целым ночам перед каждой статуей мадонны, поставленной на перекрестке. Ритм этих песен скорее веселый, чем грустный, но в монотонности припева и поэтичности слов чувствуется какое-то языческое благочестие, звучит сладостная меланхолия, которая мало-помалу овладеваем вами и наконец совсем зачаровывает.
Консуэло, подражая женщинам Венеции, пела нежным, приглушенным голосом, а Андзолето – резким, гортанным, как поют тамошние юноши. При этом он импровизировал на клавесине аккомпанемент, тихий, непрерывный и легкий, напоминавший его подруге журчание воды у каменных плит и шелест ветерка в виноградных лозах. Ей почудилось, что она в Венеции в волшебную летнюю ночь, одна под открытым небом у какой-нибудь часовенки, увитой виноградом, освещенной трепетным сиянием лампады, отражающимся в слегка подернутых рябью водах канала. О, какая разница между зловещим, душераздирающим волнением, которое испытала она утром, слушая скрипку Альберта у других вод – неподвижных, черных, молчаливых, полных призраков, и этим видением Венеции – с ее дивным небом, нежными мелодиями, лазурными волнами, где мелькают то блики от быстро скользящих огней, то лучезарные звезды! Андзолето как бы возвращал ей это чудное зрелище, воплощавшее для нее жизнь и свободу, тогда как пещера, странные и суровые напевы древней Чехии, кости, освещенные зловещим светом факелов, отражающихся в воде, где таились, быть может, такие же наводящие ужас реликвии, аскетическое, бледное, восторженное лицо Альберта, мысли о неведомом мире, символические картины, мучительное возбуждение от непонятных чар – все это было слишком тяжело для мирной и простой души Консуэло. Чтобы проникнуть в эту область отвлеченных идей, ей пришлось сделать усилие, на которое ее живое воображение было вполне способно, но при этом все существо ее надломилось, истерзанное таинственными муками, непосильным очарованием. Пылкая натура Консуэло, уроженки юга, больше даже, чем воспитание, восставала пропив сурового посвящения в мистическую любовь. Альберт олицетворял для нее дух Севера, суровый, могучий, порой величественный, но всегда печальный, как ветер ледяных ночей, как приглушенный голос зимних потоков. Его мечтательная, пытливая душа все вопрошала, все превращала в символы и бурные грозовые ночи, и путь метеоров, и строгий, гармоничный шум леса, и полустертые надписи древних могил. Андзолето, напротив, был олицетворением юга, природы распаленной и оплодотворенной горячим солнцем и ярким светом, природы, вся поэзия которой заключалась в пышном цветении, а гордость – в богатстве жизненных сил. Он жил только чувством, стремился к наслаждениям, в нем были беспечность и бесшабашность артистической натуры, своего рода неведение или равнодушие к понятию о добре и зле, умение ловить счастье, презрение к голосу рассудка или неспособность рассуждать – словом, то был враг и противник всего духовного.
Между этими двумя людьми, из которых каждый был связан со средой, враждебной другому, Консуэло оказалась так же бессильна, так же не способна проявить энергию и действовать, как душа, отделенная от тела. Она любила прекрасное, жаждала идеала, и Альберт знакомил ее с этим прекрасным, предлагал ей этот идеал. Но Альберт, чье развитие было задержано недугом, слишком отдавался духовной жизни. Он так мало знал о потребностях жизни действительной, что часто терял способность ощущать собственное существование. Он не представлял себе, что мрачные идеи и предметы, с которыми он сжился, могут под влиянием любви и добродетели внушить его невесте иные чувства, кроме восторженной веры и нежной привязанности. Он не предвидел, не понимал, что увлекает ее в атмосферу, где она погибла бы, как тропическое растение в полярном холоде. Словом, он не понимал, какое насилие она должна была совершить над собой, чтобы всецело проникнуться его думами и чувствами.
Андзолето, напротив, раня душу Консуэло и возмущая во всех отношениях ее ум, в то же время вмещал в своей могучей груди, развившейся под дуновением благотворных ветров юга, живительный воздух, в котором Цветок Испании (как он, бывало, называл Консуэло) нуждался, чтобы ожить. Он воскресил перед ней жизнь, полную чудесного бездумного созерцания, мир простых мелодий, светлых и легких, спокойное, беззаботное прошлое, где было так много движения, наивного целомудрия, честности без усилий, набожности без размышления. Это было подобно существованию птицы. А разве артист не похож на птицу и разве не следует человеку испить немного от кубка жизни, общего для всех творений, чтобы самому стать совершеннее и направить к добру сокровища своего ума!
Голос Консуэло звучал все нежнее и трогательнее по мере того, как она невольно поддавалась влиянию тех смутных сил, о которых я упомянул вместо нее и которым уделил, быть может, слишком много времени. Да простится мне это! Иначе было бы трудно понять, вследствие какой роковой изменчивости чувств эта девушка, такая разумная, такая искренняя, за четверть часа перед тем с полным основанием ненавидевшая коварного Андзолето, забылась до того, что с наслаждением слушала его голос, касалась его волос, ощущала его дыхание. Гостиная, как уже известно читателям, была слишком велика, чтобы быть достаточно светлой, да и день уже клонился к вечеру. Пюпитр клавесина, на который Андзолето поставил толстую нотную тетрадь, скрывал их от тех, кто сидел на некотором расстоянии, и головы певцов все более и более сближались. Андзолето, аккомпанируя уже только одной рукой, другой обнял гибкий стан своей подруги и незаметно привлек ее к себе. Шесть месяцев негодования и горя исчезли из памяти молодой девушки как сон. Ей казалось, будто она в Венеции и просит мадонну благословить ее любовь к красавцу жениху, который был предназначен ей ее матерью, а теперь молился вместе с ней, рука об руку, сердце к сердцу. Она не заметила, как Альберт вышел из комнаты, но самый воздух показался ей теперь легче, сумерки – мягче. Внезапно, по окончании одной строфы, она почувствовала на своих губах горячие губы своего первого жениха. Сдержав крик, она склонилась над клавиатурой и разрыдалась.
В эту минуту вернулся граф Альберт; он услышал ее рыдания, увидел оскорбительную радость Андзолето. Волнение, прервавшее пение юной артистки, не удивило остальных свидетелей этой мимолетной сцены. Никто не видел поцелуя, и каждый полагал, что воспоминания детства и любовь к своему искусству вызвали у Консуэло слезы. Графа Христиана несколько огорчила эта чувствительность, говорившая о глубокой привязанности девушки к тому, чем он просил ее пожертвовать. Канонисса же и капеллан ликовали, надеясь, что подобная жертва не сможет осуществиться. Альберт еще не задумывался над тем, возможно ли будет графине Рудольштадт снова стать артисткой, или же ей придется отказаться от сцены. Он готов был на все согласиться, все разрешить, даже потребовать, лишь бы она была счастлива и свободна, будь то в уединении, в свете или в театре – по ее собственному выбору. Отсутствие предрассудков и эгоизма доходило в нем до того, что он не предвидел самых простых вещей. Так, ему и в голову не приходило, что у Консуэло могла явиться мысль пожертвовать собой ради него, не желавшего ни единой жертвы. Но, не видя того, что было рядом, он, как всегда, увидел скрытое; он словно проник в самую сердцевину дерева и обнаружил там червя. В один миг ему стало ясно, чем на самом деле был Андзолето для Консуэло, какую цель преследовал и какое чувство внушал ей. Альберт внимательно посмотрел на этого неприятного ему человека, к которому до сих пор не хотел приглядываться, не желая ненавидеть брата Консуэло. И он увидел в нем любовника – дерзкого, настойчивого, коварного. Благородный Альберт не подумал о себе; ни сомнение, ни ревность не коснулись его сердца. Он понял только, что Консуэло грозит опасность, ибо своим глубоким, ясным взором этот человек, чье слабое зрение не выносило солнечного света и не различало цвета и формы, читал в глубине душ, проникал благодаря таинственной силе предвидения в самые тайные помыслы негодяев и обманщиков. Я не в силах объяснить естественным путем этот странный, временами проявлявшийся в нем дар. Некоторые его свойства, не расследованные и не описанные наукой, так и остались непонятными ни для его близких, ни для повествующего о них рассказчика, который по прошествии ста лет со времени описываемых событий столь же мало знает о подобных вещах, как и великие умы того века. Альберт, увидев во всей наготе эгоистическую, тщеславную душу своего соперника, не сказал себе: «Вот мой враг», – а подумал: «Вот враг Консуэло», – и, ничем не выдавая своего открытия, дал себе слово следить за ней и оберегать ее.
notes
Сноски
1
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа (лат.).
2
Аминь (лат.).
3
Хорошо, синьор профессор (ит.).
4
Цыганки (ит.).
5
Еврейка (ит.).
6
Морские цветы (ит.).
7
Господин профессор (ит.).
8
Разные сорта дешевых ракушек, любимое кушанье простого народа в Венеции. (Примеч. авт.)
9
Школа (ит.).
10
Морские чайки (ит.).
11
Счастливой ночи (ит.).
12
С адвокатом, с немцем, с дьяволом (ит.).
13
Преемница (ит.).
14
Никколо Порпора давал там уроки пения и композиции принцессе Саксонской, впоследствии французской дофине, матери Людовика XVI, Людовика XVIII и Карла X. (Примеч. авт.)
15