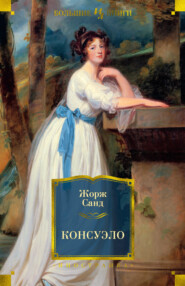По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Консуэло (LXI-CV)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Они ушли? – спросил он Андреаса.
– До рассвета, ваше преподобие.
– А что они сказали уходя? Позавтракали они, по крайней мере? Сказали, в какой именно день вернутся?
– Никто не видел их, когда они уходили, ваше преподобие. Ушли, как пришли – через ограду. Проснувшись, я нашел их комнаты пустыми. Записка, которую вы держите в руках, лежала на столе, а все двери и калитки, как я запер их вчера вечером, так запертыми и остались. Но ни единой булавки они с собой не унесли, ни до единого плода не дотронулись, бедняжки…
– Еще бы! – воскликнул каноник, и глаза его наполнились слезами.
Чтобы разогнать его грусть, Андреас предложил ему составить меню обеда.
– Подай мне что хочешь, Андреас, – ответил каноник жалобным тоном и со стоном снова упал на подушку.
Вечером того же дня Консуэло и Иосиф под покровом темноты вошли в Вену. Честный парикмахер Келлер, которого они посвятили в тайну, принял их с распростертыми объятиями и приютил у себя благородную путешественницу, предоставив ей все, что мог. Консуэло была очень мила с невестой Иосифа, огорчаясь в глубине души тем, что девушка оказалась и неприветливой и некрасивой. На следующее утро Келлер причесал растрепавшиеся кудри Консуэло, а его дочь помогла ей переодеться в женское платье и проводила до дома, где жил Порпора.
LXXXII
Радость Консуэло, когда она обняла наконец своего учителя и благодетеля, сменилась тягостным чувством, скрыть которое ей было нелегко. Еще года не прошло с тех пор, как она рассталась с Порпорой, однако этот год, полный неуверенности, тревог и огорчений, оставил на озабоченном челе маэстро глубокие следы страдания и дряхлости. У него появилась болезненная полнота, возникающая у слабых людей от бездействия и упадка духа. В глазах еще светился прежний оживлявший их огонек, но краснота одутловатого лица выдавала пагубные попытки найти в вине либо забвение горестей, либо возврат прежнего вдохновения, остывшего от старости и разочарований. Злосчастный композитор, направляясь в Вену, мечтал о новых успехах и удачах, а его встретила холодная почтительность. Он увидел, что его более счастливые соперники пользовались монаршей милостью и благосклонностью публики. Метастазио писал драмы и оратории для Кальдары[38 - Кальдара Антонио (ок. 1670–1736) – плодовитый композитор, работавший в Вене, Риме и Мадриде. Сочинил свыше 80 опер и 36 ораторий.], для Предиери[39 - Предиери Лука Антонио (1688–1769) – оперный композитор, свыше двадцати лет служил придворным капельмейстером в Вене.], для Фукса, для Рейтера и для Гассе. Но Метастазио, придворный поэт (poeta cesareo), модный писатель, новый Альбани[40 - …новый Альбани… – По-видимому, имеется в виду знаменитый итальянский художник Франческо Альбани (1578–1660), прозванный «Анакреоном живописи».], любимец муз и дам, очаровательный, изысканный, сладкозвучный, мелодичный, божественный Метастазио, словом, тот из поваров драматургии, чьи блюда считались самыми вкусными и легче всего переваривались, ничего не написал для Порпоры[41 - …ничего не написал для Порпоры… – Речь идет о времени пребывания Порпоры в Вене. В предшествующие годы на тексты Метастазио им было написано восемь опер.] и даже ничего не пообещал ему. А между тем у маэстро, пожалуй, могли еще появиться новые идеи, у него, во всяком случае, были глубокие познания, замечательное умение сочетать голоса, добрые неаполитанские традиции, строгий вкус, широкий размах, смелые, полнозвучные речитативы, величавая красота которых оставалась непревзойденной. Но у него не было приверженной ему публики, и он тщетно добивался для себя либретто. Он не умел ни льстить, ни интриговать. Своей суровой правдивостью он наживал себе врагов, а его тяжелый характер всех от него отталкивал.
Он внес раздражение даже в ласковую, отеческую встречу с Консуэло.
– А почему ты так поспешила покинуть Чехию? – спросил он, взволнованно расцеловав ее. – Зачем ты явилась сюда, несчастное дитя? Здесь нет ни ушей, способных тебя слушать, ни сердец, способных тебя понять. Здесь нет для тебя места, дочь моя! Твоего старого учителя публика презирает, и если ты хочешь пользоваться успехом, то последуй примеру других и притворись, будто вовсе не знаешь его или гнушаешься им, подобно всем тем, кто обязан ему своим талантом, своим состоянием, своей славой.
– Как? Вы и во мне сомневаетесь? – воскликнула Консуэло, и глаза ее наполнились слезами. – Вы, значит, не верите ни в мою любовь к вам, ни в мою преданность и хотите излить на меня подозрительность и пренебрежение, зароненные в вашу душу другими? О дорогой учитель! Вы увидите, что я не заслуживаю такого оскорбления. Увидите это! Вот все, что я могу вам сказать.
Порпора нахмурил брови, повернулся к ней спиной, несколько раз прошелся по комнате, затем вернулся к Консуэло, и, видя, что она плачет, но не зная, как и что сказать ей поласковей и понежней, взял из ее рук носовой платок и с отеческой бесцеремонностью стал вытирать ей глаза, приговаривая:
– Ну полно! Полно!
Старик был бледен, и Консуэло заметила, как он с трудом сдержал в своей широкой груди тяжкий вздох. Но он поборол волнение и, придвинув стул, сел подле нее.
– Ну, – начал он, – расскажи мне, как ты жила в Чехии, и объясни, почему так внезапно оттуда уехала. Говори же! – прибавил он несколько раздраженным тоном. – У тебя, наверное, тьма новостей? Скажи, ты скучала там? Или Рудольштадты плохо обошлись с тобой? Да, да, они тоже могли оскорбить тебя и измучить. Богу известно, что это единственные люди во всей вселенной, в которых я еще верил, но Богу известно и то, что все люди способны на всяческое зло.
– Не говорите так, друг мой, – остановила его Консуэло. – Рудольштадты – ангелы, и произносить их имена я должны бы не иначе, как преклонив колена, но я вынуждена была покинуть их, вынуждена была бежать, даже не предупредив их, не простившись с ними.
– Что это значит? Ты в чем-либо провинилась перед ними? Неужели мне придется краснеть за тебя и пожалеть, что я послал тебя к этим благородным людям?
– О нет! Нет! Слава богу, маэстро, я ни в чем не виновата, и вам не придется за меня краснеть.
– Так в чем же дело?
Консуэло знала, что нужно быстро и коротко отвечать Порпоре, когда он желал познакомиться с каким-нибудь фактом или мыслью, и потому в двух словах сообщила ему, что граф Альберт хотел жениться на ней, а она не могла ничего обещать ему, не посоветовавшись предварительно со своим приемным отцом.
Злобная, ироническая гримаса исказила лицо Порпоры.
– Граф Альберт! – воскликнул он. – Наследник Рудольштадтов, потомок чешских королей, владелец замка Исполинов! И он хотел сделать тебя своей женой, тебя, цыганочку? Тебя, дурнушку из нашей школы, дочь неизвестного отца, комедиантку без денег и без положения? Тебя, которая босиком просила милостыню на перекрестках Венеции?
– Меня, вашу ученицу! Меня, вашу приемную дочь! Да, меня, Порпорину! – ответила Консуэло со спокойной и кроткой гордостью.
– Подумаешь, какая знаменитость, какая блестящая партия! Да, – прибавил с горечью маэстро, – в своем перечислении я забыл следующие твои заслуги: последняя и единственная ученица учителя без школы, будущая наследница его лохмотьев и его позора. Носительница имени, уже забытого людьми! Есть чем хвастаться и кружить голову сыновьям знатнейших семейств!
– По-видимому, учитель, – сказала Консуэло с грустной и нежной улыбкой, – мы еще не так низко пали в глазах хороших людей, как вам хочется думать, ибо несомненно, что граф желает на мне жениться, и я явилась сюда, чтобы с вашего разрешения дать ему свое согласие или при вашей поддержке отказать ему.
– Консуэло, – ответил Порпора холодным и строгим тоном, – я не люблю таких глупостей. Ты должна прекрасно знать, что я ненавижу романы для пансионерок или приключения кокеток. Никогда не поверил бы я, что ты способна вбить себе в голову подобный вздор, и мне просто стыдно за тебя. Возможно, что молодой граф Рудольштадт немного увлекся тобой и, снедаемый деревенской скукой, очарованный твоим пением, слегка приударил за тобой, но как хватило у тебя дерзости принять это всерьез, предположить подобную нелепость и вообразить себя принцессой из романа. Ты возбуждаешь во мне жалость, а если старый граф, если канонисса, если баронесса Амалия осведомлены о ваших притязаниях, то мне стыдно за вас, повторяю: я за вас краснею!
Консуэло знала, что не следует ни противоречить Порпоре, когда он примется разглагольствовать, ни прерывать его во время наставлений. Она дала ему излить свое негодование, а когда он высказал ей все самое обидное и самое несправедливое, что только мог придумать, она рассказала ему правдиво и с щепетильной точностью о том, что произошло в замке Исполинов между ней и графом Альбертом, графом Христианом, Амалией, канониссой и Андзолето. Порпора, который, давая волю своему раздражению и возмущению, умел также слушать и понимать, с самым серьезным вниманием отнесся к ее рассказу. Когда Консуэло кончила, он задал ей еще несколько вопросов, чтобы выяснить некоторые подробности и лучше разобраться в интимной жизни и чувствах всего семейства.
– Если так, – проговорил он наконец, – ты хорошо поступила, Консуэло. Ты вела себя умно, с достоинством, мужественно, как я и ожидал от тебя. Это хорошо. Небо хранило тебя, и оно вознаградит тебя, избавив раз навсегда от этого негодяя Андзолето. Что касается молодого графа, то я запрещаю тебе и думать о нем. Такая судьба не для тебя. Никогда граф Христиан не позволит тебе вернуться на сцену, будь в этом уверена. Я лучше тебя знаю неукротимую спесь аристократов. Если ты на этот счет не строишь себе иллюзий, что было бы и ребячливо и глупо, то я не думаю, чтобы ты хотя минуту колебалась в выборе между жизнью великих мира сего и жизнью людей искусства. Что ты об этом думаешь? Отвечай же! Да ты и не слушаешь меня, клянусь Бахусом!
– Прекрасно слышу, учитель, но вижу, что вы ровно ничего не поняли из того, что я вам рассказала.
– Как это ничего не понял? По-твоему, я уже ничего больше не понимаю?
И узкие черные глаза маэстро снова злобно засверкали. Консуэло, знавшая Порпору как свои пять пальцев, видела, что не надо сдаваться, если она хочет, чтобы ее выслушали.
– Да, вы меня не поняли, – возразила она уверенным тоном, – вы, видимо, предполагаете во мне тщеславие, которого у меня нет. Я вовсе не завидую богатству великих мира сего, будьте в этом уверены, и никогда не говорите мне, дорогой учитель, что зависть играет какую-либо роль в моих колебаниях. Я презираю преимущества, полученные не личными заслугами человека. Вы сами воспитали меня в таких правилах, и я не могла бы изменить им. Но в жизни все же есть нечто, помимо денег и тщеславия, и это нечто настолько драгоценно, что может возместить и упоение славой, и радости артистической жизни. Это любовь такого человека, как Альберт, это семейное счастье, семейные радости. Публика – властелин тиранический, капризный и неблагодарный. Благородный муж – друг, поддержка, второе «я». Полюби я Альберта так, как он меня любит, я перестала бы думать о славе и, вероятно, была бы более счастлива.
– Что за глупые речи! – воскликнул маэстро. – С ума ты сошла, что ли? Да ты просто ударилась в немецкую сентиментальность! Бог мой, до какого презрения к искусству вы дошли, графиня! Вы сами только сейчас говорили, что ваш Альберт, как вы позволяете себе его называть, внушает вам больше страха, чем любви, и вы вся холодеете от ужаса подле него; кроме того, вы рассказали мне еще много другого, что я, с вашего позволения, прекрасно слышал и понял. А теперь, когда вы избавились от его преследований, когда вновь обрели свободу – единственное благо артиста, единственное условие его развития, вы являетесь ко мне и спрашиваете, не нужно ли вам повесить себе камень на шею, чтобы броситься на дно колодца, где обитает ваш возлюбленный ясновидец? Ну и прекрасно! Поступайте, как вам угодно, я больше не вмешиваюсь в ваши дела, и мне больше нечего вам сказать. Не стану я терять время с особой, которая не знает сама, что говорит и чего хочет! У вас нет здравого смысла. Вот и все. Слуга покорный.
Высказав это, Порпора уселся за клавесин и стал импровизировать, сильной, умелой рукой подбирая сложнейшие модуляции.
Консуэло, отчаявшись на этот раз поговорить с ним серьезно, придумывала, как бы привести его хотя бы в более спокойное расположение духа. Ей это удалось, когда она начала петь народные песни, выученные в Чехии. Оригинальность мелодий привела в восторг старого маэстро. Потом она тихонько уговорила Порпору показать ей свои последние произведения. Она пропела их с листа с таким совершенством, что маэстро снова стал восхищаться ею, снова почувствовал к ней нежность. Бедняга, не имея подле себя способных учеников и с недоверием относясь к каждому новому лицу, давно не испытывал такой радости, как слышать свои сочинения, исполняемые прекрасным голосом и понятые прекрасной душой! Он был до того растроган, услышав, как его талантливая и всегда покорная Порпорина исполняет созданные им произведения именно так, как он их задумал, что на глазах его показались слезы радости, и он, прижимая Консуэло к груди, воскликнул:
– О, ты первая певица в мире! Голос твой стал вдвое сильнее, и ты сделала такие успехи, словно я ежедневно в течение всего этого года занимался с тобой. Еще, еще раз, дочка, повтори мне эту тему. Впервые за много месяцев ты даешь мне минуты счастья!
Они скудно пообедали за маленьким столиком у окошка. Квартира Порпоры была очень плоха. Его комната, мрачная, темная, всегда в беспорядке, выходила на угол узкой и пустынной улицы. Консуэло, видя, что он пришел в хорошее расположение духа, решилась заговорить с ним об Иосифе Гайдне. Единственное, что она скрыла от учителя, – это свое длинное пешее путешествие с молодым человеком и странные приключения, породившие между ними такую нежную, чистую дружбу. Она знала, что Порпора, по своему обыкновению, отнесется недоброжелательно ко всякому желающему брать у него уроки, о ком отзовутся с похвалой. И потому она с самым равнодушным видом рассказала, что, подъезжая к Вене, разговорилась в карете с одним бедным юношей, и он с таким почтением и восторгом говорил о школе Порпоры, что она почти обещала ему замолвить о нем словечко перед самим маэстро.
– А кто этот молодой человек? – спросил Порпора. – К чему он готовит себя? Уж конечно, он хочет стать артистом, раз он бедняк? Благодарю за таких клиентов! Больше я не намерен учить никого, кроме сынков богатых родителей. Эти, по крайней мере, платят, и хотя ничему не научаются, зато гордятся нашими уроками, воображая, что выходят из наших рук с какими-то познаниями. Но артисты! Все они неблагодарные, все подлецы, все предатели и лгуны… И не заикайся мне о них. Не желаю, чтобы кто-либо из них переступил порог этой комнаты. А случись это, я моментально вышвырну его за окно!
Консуэло пробовала было рассеять его предубеждение, но старик так упорно стоял на своем, что она отказалась от этого и, высунувшись немного из окна в тот момент, когда учитель повернулся к ней спиной, сделала пальцами сначала один, а потом и другой знак. Иосиф, бродивший по улице в ожидании условленного сигнала, понял по первому знаку, что надо отказаться от какой-либо надежды попасть в ученики к Порпоре; второй знак предупреждал, что ему не следовало появляться раньше, чем через полчаса.
Желая, чтобы Порпора забыл ее слова, Консуэло заговорила о другом.
Когда прошли полчаса, Иосиф постучал в дверь. Консуэло пошла отпирать и, притворяясь, будто не знает Иосифа, вернулась доложить маэстро, что к нему желает наняться слуга.
– А ну, покажись! – крикнул Порпора дрожащему юноше. – Подойди сюда. Кто это тебе сказал, что я нуждаюсь в слуге? Никакого слуги мне не нужно.
– Если вы не нуждаетесь в слуге, – ответил Иосиф, совсем растерявшись, но стараясь, по совету Консуэло, держаться молодцом, – это крайне для меня прискорбно, сударь, ибо я очень нуждаюсь в хозяине.
– Можно подумать, что я один могу дать тебе заработок! – возразил Порпора. – Взгляни на мою квартиру и мебель – разве, по-твоему, мне нужен лакей для уборки?
– Да, конечно, сударь, он очень был бы вам нужен, – ответил Гайдн, разыгрывая доверчивого простака, – ведь здесь ужасный беспорядок!
С этими словами он тут же принялся за дело и стал убирать комнату с такой аккуратностью и хладнокровием, что Порпора чуть не расхохотался. Иосиф все поставил на карту, ибо, не рассмеши он своим усердием хозяина, тот, пожалуй, заплатил бы ему палочными ударами.
– Вот чудак, хочет служить мне помимо моей воли! – проговорил Порпора, глядя на его старания. – Говорят тебе, дурень, у меня нет средств платить слуге. Ну что? Будешь усердствовать и дальше?
– За этим, сударь, дело не станет. Лишь бы вы мне давали ваше старое платье да ежедневно по куску хлеба – больше мне ничего не нужно. Я так беден, что почту себя счастливым, если мне не придется просить милостыню.
– До рассвета, ваше преподобие.
– А что они сказали уходя? Позавтракали они, по крайней мере? Сказали, в какой именно день вернутся?
– Никто не видел их, когда они уходили, ваше преподобие. Ушли, как пришли – через ограду. Проснувшись, я нашел их комнаты пустыми. Записка, которую вы держите в руках, лежала на столе, а все двери и калитки, как я запер их вчера вечером, так запертыми и остались. Но ни единой булавки они с собой не унесли, ни до единого плода не дотронулись, бедняжки…
– Еще бы! – воскликнул каноник, и глаза его наполнились слезами.
Чтобы разогнать его грусть, Андреас предложил ему составить меню обеда.
– Подай мне что хочешь, Андреас, – ответил каноник жалобным тоном и со стоном снова упал на подушку.
Вечером того же дня Консуэло и Иосиф под покровом темноты вошли в Вену. Честный парикмахер Келлер, которого они посвятили в тайну, принял их с распростертыми объятиями и приютил у себя благородную путешественницу, предоставив ей все, что мог. Консуэло была очень мила с невестой Иосифа, огорчаясь в глубине души тем, что девушка оказалась и неприветливой и некрасивой. На следующее утро Келлер причесал растрепавшиеся кудри Консуэло, а его дочь помогла ей переодеться в женское платье и проводила до дома, где жил Порпора.
LXXXII
Радость Консуэло, когда она обняла наконец своего учителя и благодетеля, сменилась тягостным чувством, скрыть которое ей было нелегко. Еще года не прошло с тех пор, как она рассталась с Порпорой, однако этот год, полный неуверенности, тревог и огорчений, оставил на озабоченном челе маэстро глубокие следы страдания и дряхлости. У него появилась болезненная полнота, возникающая у слабых людей от бездействия и упадка духа. В глазах еще светился прежний оживлявший их огонек, но краснота одутловатого лица выдавала пагубные попытки найти в вине либо забвение горестей, либо возврат прежнего вдохновения, остывшего от старости и разочарований. Злосчастный композитор, направляясь в Вену, мечтал о новых успехах и удачах, а его встретила холодная почтительность. Он увидел, что его более счастливые соперники пользовались монаршей милостью и благосклонностью публики. Метастазио писал драмы и оратории для Кальдары[38 - Кальдара Антонио (ок. 1670–1736) – плодовитый композитор, работавший в Вене, Риме и Мадриде. Сочинил свыше 80 опер и 36 ораторий.], для Предиери[39 - Предиери Лука Антонио (1688–1769) – оперный композитор, свыше двадцати лет служил придворным капельмейстером в Вене.], для Фукса, для Рейтера и для Гассе. Но Метастазио, придворный поэт (poeta cesareo), модный писатель, новый Альбани[40 - …новый Альбани… – По-видимому, имеется в виду знаменитый итальянский художник Франческо Альбани (1578–1660), прозванный «Анакреоном живописи».], любимец муз и дам, очаровательный, изысканный, сладкозвучный, мелодичный, божественный Метастазио, словом, тот из поваров драматургии, чьи блюда считались самыми вкусными и легче всего переваривались, ничего не написал для Порпоры[41 - …ничего не написал для Порпоры… – Речь идет о времени пребывания Порпоры в Вене. В предшествующие годы на тексты Метастазио им было написано восемь опер.] и даже ничего не пообещал ему. А между тем у маэстро, пожалуй, могли еще появиться новые идеи, у него, во всяком случае, были глубокие познания, замечательное умение сочетать голоса, добрые неаполитанские традиции, строгий вкус, широкий размах, смелые, полнозвучные речитативы, величавая красота которых оставалась непревзойденной. Но у него не было приверженной ему публики, и он тщетно добивался для себя либретто. Он не умел ни льстить, ни интриговать. Своей суровой правдивостью он наживал себе врагов, а его тяжелый характер всех от него отталкивал.
Он внес раздражение даже в ласковую, отеческую встречу с Консуэло.
– А почему ты так поспешила покинуть Чехию? – спросил он, взволнованно расцеловав ее. – Зачем ты явилась сюда, несчастное дитя? Здесь нет ни ушей, способных тебя слушать, ни сердец, способных тебя понять. Здесь нет для тебя места, дочь моя! Твоего старого учителя публика презирает, и если ты хочешь пользоваться успехом, то последуй примеру других и притворись, будто вовсе не знаешь его или гнушаешься им, подобно всем тем, кто обязан ему своим талантом, своим состоянием, своей славой.
– Как? Вы и во мне сомневаетесь? – воскликнула Консуэло, и глаза ее наполнились слезами. – Вы, значит, не верите ни в мою любовь к вам, ни в мою преданность и хотите излить на меня подозрительность и пренебрежение, зароненные в вашу душу другими? О дорогой учитель! Вы увидите, что я не заслуживаю такого оскорбления. Увидите это! Вот все, что я могу вам сказать.
Порпора нахмурил брови, повернулся к ней спиной, несколько раз прошелся по комнате, затем вернулся к Консуэло, и, видя, что она плачет, но не зная, как и что сказать ей поласковей и понежней, взял из ее рук носовой платок и с отеческой бесцеремонностью стал вытирать ей глаза, приговаривая:
– Ну полно! Полно!
Старик был бледен, и Консуэло заметила, как он с трудом сдержал в своей широкой груди тяжкий вздох. Но он поборол волнение и, придвинув стул, сел подле нее.
– Ну, – начал он, – расскажи мне, как ты жила в Чехии, и объясни, почему так внезапно оттуда уехала. Говори же! – прибавил он несколько раздраженным тоном. – У тебя, наверное, тьма новостей? Скажи, ты скучала там? Или Рудольштадты плохо обошлись с тобой? Да, да, они тоже могли оскорбить тебя и измучить. Богу известно, что это единственные люди во всей вселенной, в которых я еще верил, но Богу известно и то, что все люди способны на всяческое зло.
– Не говорите так, друг мой, – остановила его Консуэло. – Рудольштадты – ангелы, и произносить их имена я должны бы не иначе, как преклонив колена, но я вынуждена была покинуть их, вынуждена была бежать, даже не предупредив их, не простившись с ними.
– Что это значит? Ты в чем-либо провинилась перед ними? Неужели мне придется краснеть за тебя и пожалеть, что я послал тебя к этим благородным людям?
– О нет! Нет! Слава богу, маэстро, я ни в чем не виновата, и вам не придется за меня краснеть.
– Так в чем же дело?
Консуэло знала, что нужно быстро и коротко отвечать Порпоре, когда он желал познакомиться с каким-нибудь фактом или мыслью, и потому в двух словах сообщила ему, что граф Альберт хотел жениться на ней, а она не могла ничего обещать ему, не посоветовавшись предварительно со своим приемным отцом.
Злобная, ироническая гримаса исказила лицо Порпоры.
– Граф Альберт! – воскликнул он. – Наследник Рудольштадтов, потомок чешских королей, владелец замка Исполинов! И он хотел сделать тебя своей женой, тебя, цыганочку? Тебя, дурнушку из нашей школы, дочь неизвестного отца, комедиантку без денег и без положения? Тебя, которая босиком просила милостыню на перекрестках Венеции?
– Меня, вашу ученицу! Меня, вашу приемную дочь! Да, меня, Порпорину! – ответила Консуэло со спокойной и кроткой гордостью.
– Подумаешь, какая знаменитость, какая блестящая партия! Да, – прибавил с горечью маэстро, – в своем перечислении я забыл следующие твои заслуги: последняя и единственная ученица учителя без школы, будущая наследница его лохмотьев и его позора. Носительница имени, уже забытого людьми! Есть чем хвастаться и кружить голову сыновьям знатнейших семейств!
– По-видимому, учитель, – сказала Консуэло с грустной и нежной улыбкой, – мы еще не так низко пали в глазах хороших людей, как вам хочется думать, ибо несомненно, что граф желает на мне жениться, и я явилась сюда, чтобы с вашего разрешения дать ему свое согласие или при вашей поддержке отказать ему.
– Консуэло, – ответил Порпора холодным и строгим тоном, – я не люблю таких глупостей. Ты должна прекрасно знать, что я ненавижу романы для пансионерок или приключения кокеток. Никогда не поверил бы я, что ты способна вбить себе в голову подобный вздор, и мне просто стыдно за тебя. Возможно, что молодой граф Рудольштадт немного увлекся тобой и, снедаемый деревенской скукой, очарованный твоим пением, слегка приударил за тобой, но как хватило у тебя дерзости принять это всерьез, предположить подобную нелепость и вообразить себя принцессой из романа. Ты возбуждаешь во мне жалость, а если старый граф, если канонисса, если баронесса Амалия осведомлены о ваших притязаниях, то мне стыдно за вас, повторяю: я за вас краснею!
Консуэло знала, что не следует ни противоречить Порпоре, когда он примется разглагольствовать, ни прерывать его во время наставлений. Она дала ему излить свое негодование, а когда он высказал ей все самое обидное и самое несправедливое, что только мог придумать, она рассказала ему правдиво и с щепетильной точностью о том, что произошло в замке Исполинов между ней и графом Альбертом, графом Христианом, Амалией, канониссой и Андзолето. Порпора, который, давая волю своему раздражению и возмущению, умел также слушать и понимать, с самым серьезным вниманием отнесся к ее рассказу. Когда Консуэло кончила, он задал ей еще несколько вопросов, чтобы выяснить некоторые подробности и лучше разобраться в интимной жизни и чувствах всего семейства.
– Если так, – проговорил он наконец, – ты хорошо поступила, Консуэло. Ты вела себя умно, с достоинством, мужественно, как я и ожидал от тебя. Это хорошо. Небо хранило тебя, и оно вознаградит тебя, избавив раз навсегда от этого негодяя Андзолето. Что касается молодого графа, то я запрещаю тебе и думать о нем. Такая судьба не для тебя. Никогда граф Христиан не позволит тебе вернуться на сцену, будь в этом уверена. Я лучше тебя знаю неукротимую спесь аристократов. Если ты на этот счет не строишь себе иллюзий, что было бы и ребячливо и глупо, то я не думаю, чтобы ты хотя минуту колебалась в выборе между жизнью великих мира сего и жизнью людей искусства. Что ты об этом думаешь? Отвечай же! Да ты и не слушаешь меня, клянусь Бахусом!
– Прекрасно слышу, учитель, но вижу, что вы ровно ничего не поняли из того, что я вам рассказала.
– Как это ничего не понял? По-твоему, я уже ничего больше не понимаю?
И узкие черные глаза маэстро снова злобно засверкали. Консуэло, знавшая Порпору как свои пять пальцев, видела, что не надо сдаваться, если она хочет, чтобы ее выслушали.
– Да, вы меня не поняли, – возразила она уверенным тоном, – вы, видимо, предполагаете во мне тщеславие, которого у меня нет. Я вовсе не завидую богатству великих мира сего, будьте в этом уверены, и никогда не говорите мне, дорогой учитель, что зависть играет какую-либо роль в моих колебаниях. Я презираю преимущества, полученные не личными заслугами человека. Вы сами воспитали меня в таких правилах, и я не могла бы изменить им. Но в жизни все же есть нечто, помимо денег и тщеславия, и это нечто настолько драгоценно, что может возместить и упоение славой, и радости артистической жизни. Это любовь такого человека, как Альберт, это семейное счастье, семейные радости. Публика – властелин тиранический, капризный и неблагодарный. Благородный муж – друг, поддержка, второе «я». Полюби я Альберта так, как он меня любит, я перестала бы думать о славе и, вероятно, была бы более счастлива.
– Что за глупые речи! – воскликнул маэстро. – С ума ты сошла, что ли? Да ты просто ударилась в немецкую сентиментальность! Бог мой, до какого презрения к искусству вы дошли, графиня! Вы сами только сейчас говорили, что ваш Альберт, как вы позволяете себе его называть, внушает вам больше страха, чем любви, и вы вся холодеете от ужаса подле него; кроме того, вы рассказали мне еще много другого, что я, с вашего позволения, прекрасно слышал и понял. А теперь, когда вы избавились от его преследований, когда вновь обрели свободу – единственное благо артиста, единственное условие его развития, вы являетесь ко мне и спрашиваете, не нужно ли вам повесить себе камень на шею, чтобы броситься на дно колодца, где обитает ваш возлюбленный ясновидец? Ну и прекрасно! Поступайте, как вам угодно, я больше не вмешиваюсь в ваши дела, и мне больше нечего вам сказать. Не стану я терять время с особой, которая не знает сама, что говорит и чего хочет! У вас нет здравого смысла. Вот и все. Слуга покорный.
Высказав это, Порпора уселся за клавесин и стал импровизировать, сильной, умелой рукой подбирая сложнейшие модуляции.
Консуэло, отчаявшись на этот раз поговорить с ним серьезно, придумывала, как бы привести его хотя бы в более спокойное расположение духа. Ей это удалось, когда она начала петь народные песни, выученные в Чехии. Оригинальность мелодий привела в восторг старого маэстро. Потом она тихонько уговорила Порпору показать ей свои последние произведения. Она пропела их с листа с таким совершенством, что маэстро снова стал восхищаться ею, снова почувствовал к ней нежность. Бедняга, не имея подле себя способных учеников и с недоверием относясь к каждому новому лицу, давно не испытывал такой радости, как слышать свои сочинения, исполняемые прекрасным голосом и понятые прекрасной душой! Он был до того растроган, услышав, как его талантливая и всегда покорная Порпорина исполняет созданные им произведения именно так, как он их задумал, что на глазах его показались слезы радости, и он, прижимая Консуэло к груди, воскликнул:
– О, ты первая певица в мире! Голос твой стал вдвое сильнее, и ты сделала такие успехи, словно я ежедневно в течение всего этого года занимался с тобой. Еще, еще раз, дочка, повтори мне эту тему. Впервые за много месяцев ты даешь мне минуты счастья!
Они скудно пообедали за маленьким столиком у окошка. Квартира Порпоры была очень плоха. Его комната, мрачная, темная, всегда в беспорядке, выходила на угол узкой и пустынной улицы. Консуэло, видя, что он пришел в хорошее расположение духа, решилась заговорить с ним об Иосифе Гайдне. Единственное, что она скрыла от учителя, – это свое длинное пешее путешествие с молодым человеком и странные приключения, породившие между ними такую нежную, чистую дружбу. Она знала, что Порпора, по своему обыкновению, отнесется недоброжелательно ко всякому желающему брать у него уроки, о ком отзовутся с похвалой. И потому она с самым равнодушным видом рассказала, что, подъезжая к Вене, разговорилась в карете с одним бедным юношей, и он с таким почтением и восторгом говорил о школе Порпоры, что она почти обещала ему замолвить о нем словечко перед самим маэстро.
– А кто этот молодой человек? – спросил Порпора. – К чему он готовит себя? Уж конечно, он хочет стать артистом, раз он бедняк? Благодарю за таких клиентов! Больше я не намерен учить никого, кроме сынков богатых родителей. Эти, по крайней мере, платят, и хотя ничему не научаются, зато гордятся нашими уроками, воображая, что выходят из наших рук с какими-то познаниями. Но артисты! Все они неблагодарные, все подлецы, все предатели и лгуны… И не заикайся мне о них. Не желаю, чтобы кто-либо из них переступил порог этой комнаты. А случись это, я моментально вышвырну его за окно!
Консуэло пробовала было рассеять его предубеждение, но старик так упорно стоял на своем, что она отказалась от этого и, высунувшись немного из окна в тот момент, когда учитель повернулся к ней спиной, сделала пальцами сначала один, а потом и другой знак. Иосиф, бродивший по улице в ожидании условленного сигнала, понял по первому знаку, что надо отказаться от какой-либо надежды попасть в ученики к Порпоре; второй знак предупреждал, что ему не следовало появляться раньше, чем через полчаса.
Желая, чтобы Порпора забыл ее слова, Консуэло заговорила о другом.
Когда прошли полчаса, Иосиф постучал в дверь. Консуэло пошла отпирать и, притворяясь, будто не знает Иосифа, вернулась доложить маэстро, что к нему желает наняться слуга.
– А ну, покажись! – крикнул Порпора дрожащему юноше. – Подойди сюда. Кто это тебе сказал, что я нуждаюсь в слуге? Никакого слуги мне не нужно.
– Если вы не нуждаетесь в слуге, – ответил Иосиф, совсем растерявшись, но стараясь, по совету Консуэло, держаться молодцом, – это крайне для меня прискорбно, сударь, ибо я очень нуждаюсь в хозяине.
– Можно подумать, что я один могу дать тебе заработок! – возразил Порпора. – Взгляни на мою квартиру и мебель – разве, по-твоему, мне нужен лакей для уборки?
– Да, конечно, сударь, он очень был бы вам нужен, – ответил Гайдн, разыгрывая доверчивого простака, – ведь здесь ужасный беспорядок!
С этими словами он тут же принялся за дело и стал убирать комнату с такой аккуратностью и хладнокровием, что Порпора чуть не расхохотался. Иосиф все поставил на карту, ибо, не рассмеши он своим усердием хозяина, тот, пожалуй, заплатил бы ему палочными ударами.
– Вот чудак, хочет служить мне помимо моей воли! – проговорил Порпора, глядя на его старания. – Говорят тебе, дурень, у меня нет средств платить слуге. Ну что? Будешь усердствовать и дальше?
– За этим, сударь, дело не станет. Лишь бы вы мне давали ваше старое платье да ежедневно по куску хлеба – больше мне ничего не нужно. Я так беден, что почту себя счастливым, если мне не придется просить милостыню.