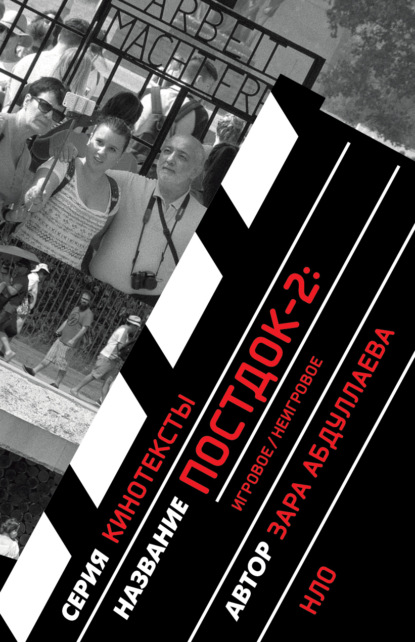По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Постдок-2: Игровое/неигровое
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Профанация самого понятия документального с течением времени была спровоцирована, с одной стороны, поверхностным использованием хроники в игровых фильмах, тем не менее отчуждающим иллюзионистское правдоподобие экранной реальности, а с другой – пропагандистскими задачами монтажных фильмов и медийной (манипулятивной) технологией.
Общеизвестно, что «инсценировка подлинного события может дать на экране более сильную иллюзию, нежели то же событие, снятое хроникально. Покойный Лео Метцнер, автор павильонной декорации, в которой снимался эпизод катастрофы в шахте для фильма Г.-В. Пабста „Солидарность“ – эпизод, отмеченный особой достоверностью, – утверждал, что съемка подлинной катастрофы, вероятно, не производила бы столь же убедительного впечатления»[40 - Кракауэр З. Природа фильма: Реабилитация физической реальности. М., 1974. С. 62.]. Ведь зрители склонны больше доверять иллюзии (образам) реальности, чем самой реальности. Не случайно разрушение башен-близнецов воспринималось теми, кто включил телевизор, не зная о случившемся, как эпизоды фильма-катастрофы.
Девальвация документа, инициированная и разработанная агитпропом прошлого века, многократно описана. Но такое положение дел достигло критической массы в 90?е годы, спровоцировав, с одной стороны, потребность возвращения документу его утерянного назначения, а с другой – уже в качестве реакции на постмодернистское мышление – появление новых реалистов.
Возможно, документального кино, неизбежно транслирующего взгляд режиссера, оператора, вообще не было и нет, зато есть и никуда не делось ощущение достоверности, онтологического свойства киноматерии, причем независимо от организации видимого и невидимого мира последователей Флаэрти или Вертова.
Эффект документального – в игровых и документальных фильмах – связан с особой чувственностью самопроявляющейся «физической реальности», которую Зигфрид Кракауэр называл «реальностью кинокамеры». Иначе говоря, той реальности, которая как бы лишена авторского вмешательства или, напротив, предполагает новые отношения между реконструкцией (воспоминаний, событий) и вымыслом.
Документальное есть такое свойство (кино)реальности, которое трудно, в идеале невозможно контролировать или сымитировать. Проявляется это свойство либо в промежутке между неинсценированными «кинофактами» (согласно Вертову), снятыми скрытой камерой, врасплох; либо – в интервалах, паузах между инсценированными эпизодами. Либо остается «невидимым» – иначе говоря, скрытым в срезках материала, не вошедшего в окончательный монтаж картины, будучи «лишним» для развития сюжета. Длинные «скучные» фильмы Кошты – это последовательный опыт промежуточной, неигровой и недокументальной, режиссерской практики.
После смерти
В конце 90?х я прочла рукопись «Лето в Бадене» Леонида Цыпкина, отца моего университетского товарища. Сильнейшее впечатление было связано, помимо неожиданного явления литературы андеграунда, с новым типом нарратива, строящегося на границе вымышленного рассказа и документального. (Эта рукопись тогда же побудила задумать книгу о пограничных территориях.)
Михаил Цыпкин, давно живущий в Америке, рассказал мне по приезде в Москву фантастическую историю литературного наследства отца: о Сьюзен Зонтаг, прочитавшей роман по-английски, после чего она включила его в список лучших книг ХХ века в журнале «Нью-Йоркер»; о том, как написал Зонтаг письмо, и она решительно обещала способствовать публикации в США. Миша обсуждал со мной возможность напечатать книгу в России. Первое издание «Лета в Бадене» с другими сочинениями Леонида Цыпкина – после многочисленных попыток – вышло в 1999 году в издательстве МХТ[41 - Цыпкин Л. Лето в Бадене. М., 1999.]. Больше никто не хотел печатать. Литературные критики, которым я рассказала сюжет о Зонтаг и дала книгу на прочтение, рецензировать ее отказались: у кого-то она вызвала раздражение, кто-то посчитал ее «внеконтекстуальной». Первая публикация об этом писателе состоялась в журнале «Искусство кино»[42 - Абдуллаева З. Фантастический реализм // Искусство кино. 2002. № 3. С. 28–31.]. Когда-то Леонид Цыпкин, патологоанатом и научный работник, хотел поступать на режиссерский факультет ВГИКа, но материальные заботы о семье не дали осуществиться этим планам. По странному стечению обстоятельств он появился-таки на страницах киножурнала, но как сочинитель, а не автор фильмов.
Михаил Цыпкин посвятил книгу «памяти отца» и написал к первому изданию предисловие, перепечатанное во втором издании[43 - Цыпкин Л. «Лето в Бадене» и другие сочинения. М., 2005.]. Я, будучи редактором, в память о моей матери взяла ее имя, отчество, фамилию (Тамара Иосифовна Гольдина), закольцевав на свой интимный лад семейные сюжеты, на которых построено «Лето в Бадене».
Роман Леонида Цыпкина, написанный в начале 1980?х, воссоединяет чтение «Дневника» Анны Григорьевны Достоевской, с которым рассказчик, едучи в командировку, погружается в поезд Москва – Ленинград; воспоминания рассказчика о работниках московской больницы, о пассажирах троллейбуса, в котором он ездил на службу, сплетенных с воспоминаниями жены Достоевского в одном абзаце без точек, с прямодушным переходом от первого лица к третьему и наоборот; воспоминания о жизни во время блокады некоей Гили, подруги матери автора, в квартире которой он обычно останавливался в Ленинграде; воспоминания о семье Гили, о романах ее мужа и о его смерти, смонтированных с семейной хроникой Достоевского, а также – ближе к финалу – со стилизацией ленинградской уличной сценки в духе фрагмента романа Достоевского: «…здесь было совсем почти светло – то ли от близости Лиговки, то ли от искрящегося снега, и какая-то семья – родители, плохо и бедно одетые, и с ними девочка лет семи или восьми, тоже в очень худом пальтишке, – шла мимо этой бывшей часовни или церкви – лица у них были белые, чухонские, – отец, шедший чуть сзади нетвердой походкой, догнал жену с девочкой, и они неожиданно повалились в сугроб, – девочка вскочила первой и, отряхиваясь от снега, стала что-то быстро и горячо выговаривать родителям, которые никак не могли подняться. А когда поднялись и пошли, то я увидел, что и мать девочки идет нетвердой походкой, – девочка пошла впереди, словно поводырь, или, может быть, просто стыдясь своих родителей, – в ореоле фонарей Свечного переулка медленно кружились снежинки – я приближался к Лиговке, а где-то позади меня осталась полутемная, бесконечно прямая улица, вся заснеженная, с поземкой, наметающей сугробы, с молчаливыми казенными домами и с самым молчаливым и темным из них – угловым»[44 - Цыпкин Л. Лето в Бадене. С. 112–113.].
Этот непрерывный, плавный и взвинченный поток повествования, усугубленный памятью захлебывающегося ритма романов Достоевского, строился как «дневник по типу романа»[45 - Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 142.], в котором «ничего не выдумано. И выдумано все»[46 - Зонтаг С. Любить Достоевского // Цыпкин Л. «Лето в Бадене» и другие сочинения. С. 636.].
Советская реальность (поезд Москва – Ленинград, ленинградские улицы и коммуналка) наслаивается на реальность воображаемую, пересказанную или даже визуализированную по следам дневника жены Достоевского; время прошлое (путешествие Достоевского в Дрезден, Баден-Баден, Франкфурт, врезки блокадных воспоминаний) и время настоящее, а точнее, одновременное пребывание в нескольких временах задокументировали диалогическое воображение[47 - См.: Бахтин М. М. Эпос и роман (О методологическом исследовании романа) // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 447–483.] рассказчика, регистрирующего свой «вымышленный опыт времени» (Поль Рикёр) и втянувшего читателя в «двойной разговор – о жизни и о литературе»[48 - Гинзбург Л. Указ. соч. С. 269.].
«Писательство было для отца самовыражением в самом прямом смысле слова: он не умел выдумывать с нуля положения и характеры, брал их из своей жизни, смотрел на них своими глазами, и главное для него было – честно разобраться в самом себе. ‹…› от коротких, почти бессюжетных рассказов он перешел к более длинным, с более сложным сюжетом, оттуда шагнул к автобиографическим повестям („Мост через Нерочь“ и „Норартакир“), а затем к неавтобиографическому (хотя и частично основанному на документальных материалах) „Лету в Бадене“»[49 - Цыпкин М. О моем отце // Цыпкин Л. Лето в Бадене. С. 10.]. Леонид Цыпкин снимал места, где жил Достоевский и его герои, и передал свой фотоальбом в ленинградский музей писателя.
Леонид Борисович Цыпкин, автор не одной сотни научных статей и отказник, переведенный из?за сына-эмигранта в младшие научные сотрудники, был из института полиомиелита уволен. И этого не пережил. Никуда за пределы СССР, даже в соцстраны, не выезжавший, Леонид Цыпкин отправился с переведенным на английский романом в долгое путешествие. Или – эмигрировал. «Невидимая книга», написанная «в стол», но вывезенная за границу, обрела второе (или первое) рождение.
В Америке после выхода романа с предисловием Зонтаг появились подробные рецензии, в которых «Лето в Бадене» – без искательных или дружеских звонков – называли «затерянным шедевром». Возможно, имя неистовой Зонтаг сыграло в этом сюжете ключевую роль. Ведь она, написав о том, что сцена смерти Достоевского в романе Цыпкина сделана на уровне Толстого, протянула руку безвестному доктору, как некогда Виссарион Григорьевич – начинающему автору «Бедных людей».
Это петляющая, с усложненной дикцией, но при этом внятная, очень конкретная проза с абзацами-периодами на несколько страниц. В широком, как на картине Шагала «Вперед» (именно ее отпечаток был на обложке первого издания), разбеге короткого и насыщенного «Лета в Бадене», ритму которого отдаешься мгновенно, переплывая от метаний Федора Михайловича по Бадену к телячьим котлетам Гили из коммуналки, где на продавленном диване безымянный рассказчик читает статью «Еврейский вопрос» из «Дневника писателя», есть закавыка. Она связана с образом «советского еврея», ушибленного русской литературой и ставшего как бы даже более русским, чем русские, не отказываясь при этом от своего еврейства.
«Я не русский философ, не русский писатель и даже не русский интеллигент, – приводит слова отца Михаил Цыпкин, – я просто советский еврей»[50 - Там же. С. 13.]. Этот человек из потомственной врачебной семьи дружил с Марией Вениаминовной Юдиной – они были соседями по дому близ метро «Парк культуры». Она стала героиней (с другим – из деликатности отчеством) рассказа «Ave Maria». Его занимал выбор и обожаемого Пастернака, и Юдиной, «однако сам никогда не помышлял о крещении, считая, что такой шаг будет приспособленчеством, пусть и самым рафинированным»[51 - Там же. С. 9.].
В «Лете…» есть удивляющая подлинность непридуманной и недокументальной литературы, которую буквальной достоверностью материала (хотя ею врач и писатель не пренебрегал) не взять. Здесь хроника заграничного пребывания Достоевского прибивается волной к автобиографическим заметкам рассказчика, направляющегося по хмурым ленинградским улицам, на которых то и дело возникают достоевские и советские персонажи, от квартиры Гили до музея Достоевского, и напоминает иногда один из снов, на которые так падки русские романы. Или голливудские сюжеты, на которые похож фантастический сюжет посмертной славы автора «Лета в Бадене».
Зонтаг вводит американских читателей в круг вопросов по поводу антисемитизма русского писателя, чувствительного к страданиям униженных и оскорбленных, а также по поводу особого тяготения евреев к Достоевскому[52 - Зонтаг С. Любить Достоевского // Цыпкин Л. Лето в Бадене. С. 637.]. Эта тема, или неразрешимая мысль, кажется сыну Леонида Цыпкина, выпускнику филфака МГУ, душевной пружиной «Лета в Бадене», связанной с подозрением его автора, что «Достоевский ненавидит евреев со страстью оттого, что видел в своем характере столь презираемые им у евреев черты. Отец отнюдь не стремился писать на запретные темы, просто он не мог осмысливать свою жизнь, не касаясь их»[53 - Цыпкин М. Указ. соч. С. 10.]. Для него литература еще оставалась полем испытания такой контроверзы.
Усевшись в дневной поезд с томиком «Дневника» Анны Григорьевны в старом издании, взятом у родственницы, историка литературы, рассказчик втягивается в воронку ассоциаций. «Его» глазами этот рассказчик видит баденских, франкфуртских «жидочков», своими – не менее внимательными – ленинградских.
Леонид Цыпкин успевает вклинивать в многоголосицу стремительного романа и баденскую прислугу Достоевских, и Тургенева с Гончаровым, и соседку по коммуналке Анну Дмитриевну, бывшую красавицу, бывшую владелицу квартиры, куда вела «лестница со сбитыми и стоптанными ступенями», и какого-то простолюдина, ударившего по пьяни Федора Михайловича на улице Марата, и литературоведов (от Леонида Гроссмана до Соркиной Двоси Львовны), «ставших монополистами в изучении творческого наследия Достоевского», в загадочном и благоговейном рвении терзавших «дневники, записи, черновики, письма и даже мелкие фактики, относящиеся к человеку, презирающему и ненавидящему народ, к которому они принадлежали», напоминая рассказчику «акт каннибализма, совершаемый в отношении вождя враждебного племени»[54 - Цыпкин Л. Лето в Бадене. С. 90.]. Но тут же диагностировал и «желание спрятаться за его спиной, как за охранной грамотой», и тут же связывал градус «повышенной активности евреев» именно с вопросами «русской культуры и сохранения русского национального духа». И тут же, не отрываясь, включал в повествование похрапывание за стенкой болтушки Гили, и след в след несся на перрон то ли Бадена, то ли Базеля, или – с фотоаппаратом – по улицам Ленинграда. Его фотографии иллюстрируют издание романа в издательстве «НЛО».
В эссе о писателе Зебальде Зонтаг пишет, что в его «книгах повествователь, носящий, как нам изредка напоминают, имя В. Г. Зебальда, путешествует ‹…› задумываясь над тайнами незаметных жизней»[55 - Зонтаг С. Разум в трауре // Критическая масса. 2006. № 2. С. 101.]. Они взывают к новым свидетельствам, которые осуществляет рассказчик, и задает вопрос, кто он: автор романов или «вымышленный персонаж с одолженным у автора именем и некоторыми подробностями биографии? Родившийся в 1944 году в немецком городке ‹…› в двадцать с небольшим избравший местом жительства Великобританию. А родом занятий – карьеру преподавателя немецкой литературы в университете Восточной Англии, автор с намеком рассыпает эти и другие малозначительные факты, так же как приобщает к личным документам, воспроизведенным на страницах книг, свое зернистое изображение перед могучим ливанским кедром в „Кольцах Сатурна“ и фотографию на новый паспорт в „Чувстве головокружения“. Тем не менее эти книги требуют, чтобы их читали как вымышленные. Они и в самом деле вымышлены, и не только потому, что в них ‹…› начисто выдумано или полностью переиначено, поскольку немалая часть рассказанного существовала в реальности – имена, места, даты и прочее. Вымысел и реальность вовсе не противостоят друг другу. ‹…› Вымышленной книгу делает не то, что история в ней не подлинная, – она как раз может быть подлинной, частично или даже целиком, – а то, что она использует или эксплуатирует множество средств (включая мнимые или поддельные документы), создающих, по выражению теоретиков литературы, „эффект реальности“. Книги Зебальда – и сопровождающие их иллюстрации – доводят этот эффект до последнего предела»[56 - Там же.]
Общеизвестно, что «инсценировка подлинного события может дать на экране более сильную иллюзию, нежели то же событие, снятое хроникально. Покойный Лео Метцнер, автор павильонной декорации, в которой снимался эпизод катастрофы в шахте для фильма Г.-В. Пабста „Солидарность“ – эпизод, отмеченный особой достоверностью, – утверждал, что съемка подлинной катастрофы, вероятно, не производила бы столь же убедительного впечатления»[40 - Кракауэр З. Природа фильма: Реабилитация физической реальности. М., 1974. С. 62.]. Ведь зрители склонны больше доверять иллюзии (образам) реальности, чем самой реальности. Не случайно разрушение башен-близнецов воспринималось теми, кто включил телевизор, не зная о случившемся, как эпизоды фильма-катастрофы.
Девальвация документа, инициированная и разработанная агитпропом прошлого века, многократно описана. Но такое положение дел достигло критической массы в 90?е годы, спровоцировав, с одной стороны, потребность возвращения документу его утерянного назначения, а с другой – уже в качестве реакции на постмодернистское мышление – появление новых реалистов.
Возможно, документального кино, неизбежно транслирующего взгляд режиссера, оператора, вообще не было и нет, зато есть и никуда не делось ощущение достоверности, онтологического свойства киноматерии, причем независимо от организации видимого и невидимого мира последователей Флаэрти или Вертова.
Эффект документального – в игровых и документальных фильмах – связан с особой чувственностью самопроявляющейся «физической реальности», которую Зигфрид Кракауэр называл «реальностью кинокамеры». Иначе говоря, той реальности, которая как бы лишена авторского вмешательства или, напротив, предполагает новые отношения между реконструкцией (воспоминаний, событий) и вымыслом.
Документальное есть такое свойство (кино)реальности, которое трудно, в идеале невозможно контролировать или сымитировать. Проявляется это свойство либо в промежутке между неинсценированными «кинофактами» (согласно Вертову), снятыми скрытой камерой, врасплох; либо – в интервалах, паузах между инсценированными эпизодами. Либо остается «невидимым» – иначе говоря, скрытым в срезках материала, не вошедшего в окончательный монтаж картины, будучи «лишним» для развития сюжета. Длинные «скучные» фильмы Кошты – это последовательный опыт промежуточной, неигровой и недокументальной, режиссерской практики.
После смерти
В конце 90?х я прочла рукопись «Лето в Бадене» Леонида Цыпкина, отца моего университетского товарища. Сильнейшее впечатление было связано, помимо неожиданного явления литературы андеграунда, с новым типом нарратива, строящегося на границе вымышленного рассказа и документального. (Эта рукопись тогда же побудила задумать книгу о пограничных территориях.)
Михаил Цыпкин, давно живущий в Америке, рассказал мне по приезде в Москву фантастическую историю литературного наследства отца: о Сьюзен Зонтаг, прочитавшей роман по-английски, после чего она включила его в список лучших книг ХХ века в журнале «Нью-Йоркер»; о том, как написал Зонтаг письмо, и она решительно обещала способствовать публикации в США. Миша обсуждал со мной возможность напечатать книгу в России. Первое издание «Лета в Бадене» с другими сочинениями Леонида Цыпкина – после многочисленных попыток – вышло в 1999 году в издательстве МХТ[41 - Цыпкин Л. Лето в Бадене. М., 1999.]. Больше никто не хотел печатать. Литературные критики, которым я рассказала сюжет о Зонтаг и дала книгу на прочтение, рецензировать ее отказались: у кого-то она вызвала раздражение, кто-то посчитал ее «внеконтекстуальной». Первая публикация об этом писателе состоялась в журнале «Искусство кино»[42 - Абдуллаева З. Фантастический реализм // Искусство кино. 2002. № 3. С. 28–31.]. Когда-то Леонид Цыпкин, патологоанатом и научный работник, хотел поступать на режиссерский факультет ВГИКа, но материальные заботы о семье не дали осуществиться этим планам. По странному стечению обстоятельств он появился-таки на страницах киножурнала, но как сочинитель, а не автор фильмов.
Михаил Цыпкин посвятил книгу «памяти отца» и написал к первому изданию предисловие, перепечатанное во втором издании[43 - Цыпкин Л. «Лето в Бадене» и другие сочинения. М., 2005.]. Я, будучи редактором, в память о моей матери взяла ее имя, отчество, фамилию (Тамара Иосифовна Гольдина), закольцевав на свой интимный лад семейные сюжеты, на которых построено «Лето в Бадене».
Роман Леонида Цыпкина, написанный в начале 1980?х, воссоединяет чтение «Дневника» Анны Григорьевны Достоевской, с которым рассказчик, едучи в командировку, погружается в поезд Москва – Ленинград; воспоминания рассказчика о работниках московской больницы, о пассажирах троллейбуса, в котором он ездил на службу, сплетенных с воспоминаниями жены Достоевского в одном абзаце без точек, с прямодушным переходом от первого лица к третьему и наоборот; воспоминания о жизни во время блокады некоей Гили, подруги матери автора, в квартире которой он обычно останавливался в Ленинграде; воспоминания о семье Гили, о романах ее мужа и о его смерти, смонтированных с семейной хроникой Достоевского, а также – ближе к финалу – со стилизацией ленинградской уличной сценки в духе фрагмента романа Достоевского: «…здесь было совсем почти светло – то ли от близости Лиговки, то ли от искрящегося снега, и какая-то семья – родители, плохо и бедно одетые, и с ними девочка лет семи или восьми, тоже в очень худом пальтишке, – шла мимо этой бывшей часовни или церкви – лица у них были белые, чухонские, – отец, шедший чуть сзади нетвердой походкой, догнал жену с девочкой, и они неожиданно повалились в сугроб, – девочка вскочила первой и, отряхиваясь от снега, стала что-то быстро и горячо выговаривать родителям, которые никак не могли подняться. А когда поднялись и пошли, то я увидел, что и мать девочки идет нетвердой походкой, – девочка пошла впереди, словно поводырь, или, может быть, просто стыдясь своих родителей, – в ореоле фонарей Свечного переулка медленно кружились снежинки – я приближался к Лиговке, а где-то позади меня осталась полутемная, бесконечно прямая улица, вся заснеженная, с поземкой, наметающей сугробы, с молчаливыми казенными домами и с самым молчаливым и темным из них – угловым»[44 - Цыпкин Л. Лето в Бадене. С. 112–113.].
Этот непрерывный, плавный и взвинченный поток повествования, усугубленный памятью захлебывающегося ритма романов Достоевского, строился как «дневник по типу романа»[45 - Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 142.], в котором «ничего не выдумано. И выдумано все»[46 - Зонтаг С. Любить Достоевского // Цыпкин Л. «Лето в Бадене» и другие сочинения. С. 636.].
Советская реальность (поезд Москва – Ленинград, ленинградские улицы и коммуналка) наслаивается на реальность воображаемую, пересказанную или даже визуализированную по следам дневника жены Достоевского; время прошлое (путешествие Достоевского в Дрезден, Баден-Баден, Франкфурт, врезки блокадных воспоминаний) и время настоящее, а точнее, одновременное пребывание в нескольких временах задокументировали диалогическое воображение[47 - См.: Бахтин М. М. Эпос и роман (О методологическом исследовании романа) // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 447–483.] рассказчика, регистрирующего свой «вымышленный опыт времени» (Поль Рикёр) и втянувшего читателя в «двойной разговор – о жизни и о литературе»[48 - Гинзбург Л. Указ. соч. С. 269.].
«Писательство было для отца самовыражением в самом прямом смысле слова: он не умел выдумывать с нуля положения и характеры, брал их из своей жизни, смотрел на них своими глазами, и главное для него было – честно разобраться в самом себе. ‹…› от коротких, почти бессюжетных рассказов он перешел к более длинным, с более сложным сюжетом, оттуда шагнул к автобиографическим повестям („Мост через Нерочь“ и „Норартакир“), а затем к неавтобиографическому (хотя и частично основанному на документальных материалах) „Лету в Бадене“»[49 - Цыпкин М. О моем отце // Цыпкин Л. Лето в Бадене. С. 10.]. Леонид Цыпкин снимал места, где жил Достоевский и его герои, и передал свой фотоальбом в ленинградский музей писателя.
Леонид Борисович Цыпкин, автор не одной сотни научных статей и отказник, переведенный из?за сына-эмигранта в младшие научные сотрудники, был из института полиомиелита уволен. И этого не пережил. Никуда за пределы СССР, даже в соцстраны, не выезжавший, Леонид Цыпкин отправился с переведенным на английский романом в долгое путешествие. Или – эмигрировал. «Невидимая книга», написанная «в стол», но вывезенная за границу, обрела второе (или первое) рождение.
В Америке после выхода романа с предисловием Зонтаг появились подробные рецензии, в которых «Лето в Бадене» – без искательных или дружеских звонков – называли «затерянным шедевром». Возможно, имя неистовой Зонтаг сыграло в этом сюжете ключевую роль. Ведь она, написав о том, что сцена смерти Достоевского в романе Цыпкина сделана на уровне Толстого, протянула руку безвестному доктору, как некогда Виссарион Григорьевич – начинающему автору «Бедных людей».
Это петляющая, с усложненной дикцией, но при этом внятная, очень конкретная проза с абзацами-периодами на несколько страниц. В широком, как на картине Шагала «Вперед» (именно ее отпечаток был на обложке первого издания), разбеге короткого и насыщенного «Лета в Бадене», ритму которого отдаешься мгновенно, переплывая от метаний Федора Михайловича по Бадену к телячьим котлетам Гили из коммуналки, где на продавленном диване безымянный рассказчик читает статью «Еврейский вопрос» из «Дневника писателя», есть закавыка. Она связана с образом «советского еврея», ушибленного русской литературой и ставшего как бы даже более русским, чем русские, не отказываясь при этом от своего еврейства.
«Я не русский философ, не русский писатель и даже не русский интеллигент, – приводит слова отца Михаил Цыпкин, – я просто советский еврей»[50 - Там же. С. 13.]. Этот человек из потомственной врачебной семьи дружил с Марией Вениаминовной Юдиной – они были соседями по дому близ метро «Парк культуры». Она стала героиней (с другим – из деликатности отчеством) рассказа «Ave Maria». Его занимал выбор и обожаемого Пастернака, и Юдиной, «однако сам никогда не помышлял о крещении, считая, что такой шаг будет приспособленчеством, пусть и самым рафинированным»[51 - Там же. С. 9.].
В «Лете…» есть удивляющая подлинность непридуманной и недокументальной литературы, которую буквальной достоверностью материала (хотя ею врач и писатель не пренебрегал) не взять. Здесь хроника заграничного пребывания Достоевского прибивается волной к автобиографическим заметкам рассказчика, направляющегося по хмурым ленинградским улицам, на которых то и дело возникают достоевские и советские персонажи, от квартиры Гили до музея Достоевского, и напоминает иногда один из снов, на которые так падки русские романы. Или голливудские сюжеты, на которые похож фантастический сюжет посмертной славы автора «Лета в Бадене».
Зонтаг вводит американских читателей в круг вопросов по поводу антисемитизма русского писателя, чувствительного к страданиям униженных и оскорбленных, а также по поводу особого тяготения евреев к Достоевскому[52 - Зонтаг С. Любить Достоевского // Цыпкин Л. Лето в Бадене. С. 637.]. Эта тема, или неразрешимая мысль, кажется сыну Леонида Цыпкина, выпускнику филфака МГУ, душевной пружиной «Лета в Бадене», связанной с подозрением его автора, что «Достоевский ненавидит евреев со страстью оттого, что видел в своем характере столь презираемые им у евреев черты. Отец отнюдь не стремился писать на запретные темы, просто он не мог осмысливать свою жизнь, не касаясь их»[53 - Цыпкин М. Указ. соч. С. 10.]. Для него литература еще оставалась полем испытания такой контроверзы.
Усевшись в дневной поезд с томиком «Дневника» Анны Григорьевны в старом издании, взятом у родственницы, историка литературы, рассказчик втягивается в воронку ассоциаций. «Его» глазами этот рассказчик видит баденских, франкфуртских «жидочков», своими – не менее внимательными – ленинградских.
Леонид Цыпкин успевает вклинивать в многоголосицу стремительного романа и баденскую прислугу Достоевских, и Тургенева с Гончаровым, и соседку по коммуналке Анну Дмитриевну, бывшую красавицу, бывшую владелицу квартиры, куда вела «лестница со сбитыми и стоптанными ступенями», и какого-то простолюдина, ударившего по пьяни Федора Михайловича на улице Марата, и литературоведов (от Леонида Гроссмана до Соркиной Двоси Львовны), «ставших монополистами в изучении творческого наследия Достоевского», в загадочном и благоговейном рвении терзавших «дневники, записи, черновики, письма и даже мелкие фактики, относящиеся к человеку, презирающему и ненавидящему народ, к которому они принадлежали», напоминая рассказчику «акт каннибализма, совершаемый в отношении вождя враждебного племени»[54 - Цыпкин Л. Лето в Бадене. С. 90.]. Но тут же диагностировал и «желание спрятаться за его спиной, как за охранной грамотой», и тут же связывал градус «повышенной активности евреев» именно с вопросами «русской культуры и сохранения русского национального духа». И тут же, не отрываясь, включал в повествование похрапывание за стенкой болтушки Гили, и след в след несся на перрон то ли Бадена, то ли Базеля, или – с фотоаппаратом – по улицам Ленинграда. Его фотографии иллюстрируют издание романа в издательстве «НЛО».
В эссе о писателе Зебальде Зонтаг пишет, что в его «книгах повествователь, носящий, как нам изредка напоминают, имя В. Г. Зебальда, путешествует ‹…› задумываясь над тайнами незаметных жизней»[55 - Зонтаг С. Разум в трауре // Критическая масса. 2006. № 2. С. 101.]. Они взывают к новым свидетельствам, которые осуществляет рассказчик, и задает вопрос, кто он: автор романов или «вымышленный персонаж с одолженным у автора именем и некоторыми подробностями биографии? Родившийся в 1944 году в немецком городке ‹…› в двадцать с небольшим избравший местом жительства Великобританию. А родом занятий – карьеру преподавателя немецкой литературы в университете Восточной Англии, автор с намеком рассыпает эти и другие малозначительные факты, так же как приобщает к личным документам, воспроизведенным на страницах книг, свое зернистое изображение перед могучим ливанским кедром в „Кольцах Сатурна“ и фотографию на новый паспорт в „Чувстве головокружения“. Тем не менее эти книги требуют, чтобы их читали как вымышленные. Они и в самом деле вымышлены, и не только потому, что в них ‹…› начисто выдумано или полностью переиначено, поскольку немалая часть рассказанного существовала в реальности – имена, места, даты и прочее. Вымысел и реальность вовсе не противостоят друг другу. ‹…› Вымышленной книгу делает не то, что история в ней не подлинная, – она как раз может быть подлинной, частично или даже целиком, – а то, что она использует или эксплуатирует множество средств (включая мнимые или поддельные документы), создающих, по выражению теоретиков литературы, „эффект реальности“. Книги Зебальда – и сопровождающие их иллюстрации – доводят этот эффект до последнего предела»[56 - Там же.]