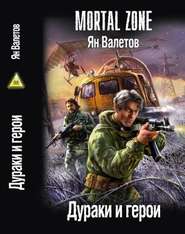По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Чужие сны
Автор
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А я не считаю, что писатель должен нести в массы разумное, доброе и вечное. Кто вам сказал, барышня, что писатель должен хоть что-нибудь куда-нибудь нести? Мне больше нравится мысль Стругацких: писатель – это больная совесть. А больная совесть – она просто болит.
– Вы считаете себя совестью народа? – барышня на русский не перешла, продолжала задавать вопросы на английском, и неплохом английском, надо сказать.
Ох, какая неуемная девица! На барышню, наверное, обиделась!
– Какого народа, барышня? Я в затруднении! Мне повезло родиться и вырасти в Киеве, сейчас мы с женой бываем то в Берлине, то в Барселоне, то в Нью-Йорке… Раньше вот в Москву и Питер ездил, как к себе на дачу, но тут вмешались обстоятельства, ничего не попишешь… И везде у нас друзья, родственники, и везде мы чувствуем себя как дома… Совестью какого народа вы мне прикажете быть? К какой нации себя отнести? Я пишу о людях, не о народах. Меня волнуют не национальные проблемы, а общечеловеческие.
Это была очень зыбкая почва, Давыдов прекрасно понимал, что сейчас подтянется тяжелая артиллерия. Любимый конек – националисты, нацисты, Майдан, переворот, американское влияние и как вы относитесь к событиям в Киеве? Поддерживаете ли вы нынешнюю языковую политику? Вы же пишете на русском, если мы правильно помним? Почему не переходите на соловьиную? И несколько слов про героизацию…
В первое время он переживал и пытался что-то доказывать. Потом злился. Потом свирепел. Теперь же предпочитал иронизировать и отмораживаться.
Все равно каждый раз происходило одно и то же – что во Франкфурте, что в Вильнюсе, что в Варшаве. На стенд приходили старые знакомые (с которыми в свое время был выпит не один литр водки) и, кривя рот, говорили с Давыдовым как с младшим непутевым братом, слабоумным с рождения. Мол, как же это ты так, Давыдов! Ты же наш! Что ты там забыл, предатель?
В Москве и Питере Давыдова теперь не любили – не поддержал идею, манкурт! Ату его! Ату! Книги Дениса давно исчезли из рейтингов, остатки некогда больших тиражей допродавались по складам, критики писали о нем, как о покойнике, который и при жизни-то был графоман графоманом, но публику исхитрился ввести в заблуждение.
И милую барышню сейчас пустили на него, как минный тральщик, чтобы расчистить фарватер для корабля побольше. Интересно, что на этот раз? Кто у нас сегодня главный калибр?
– Разве ваш роман «Факельное шествие» не о национальных проблемах? – это уже прозвучало по-русски. Причем, с московским говорком – Давыдов прекрасно различал акценты.
Денис повернулся на голос.
Это Кротов, «Литературная газета». Он! На линкор или крейсер не тянет, но в качестве противолодочного корабля – вполне. Все-таки выставка в Варшаве, сюда Соловьева не пошлешь! Приходится обходиться рыбками помельче!
Кротов – тот еще кадр! Старый, проверенный, верный – настоящий шакал пера! Грузный, потный, с лицом, на котором написано хроническое несварение и многолетний запор. Желчный, злой, сочащийся недоброжелательностью, как гнилое мясо – красной жижей. Давыдов-беллетрист для него всегда был недостаточно высоколоб, но писать о нем приходилось: он модный тренд! Его переводят! У него большие тиражи на западе и в бывших советских республиках, и читатели ходят за ним, как собачья стая за течной сукой! Какая несправедливость – уделять внимание писателю, который не желает писать скучно, не любит интеллектуальную прозу, не смотрит на коллег по цеху, оттопырив нижнюю губу, и не поддерживает нынешнюю идеологию страны, на языке которой, мерзавец, имеет счастье творить!
– Нет, господин Кротов. «Факельное шествие» – не о национальных проблемах: это книга о реинкарнации нацизма. Она о нацизме и нацистах, какими мы видим их сегодня. О том, что они – реальность.
– Очень неполиткорректная книга, – заметил Кротов походя. – Особенно в вашем нынешнем положении и для вашего нынешнего окружения.
Ответ его не интересовал, он заготовил речь заранее.
– Если бы ее написал какой-нибудь политик левого толка, то это было бы в порядке вещей. Но вы не политик, вы автор жанровой литературы, причем в стране, для которой пишете на языке врага. Но вы – разрешенный враг и позволяете себе ерничать, издеваться над серьезными проблемами, зло подначивать и читателей, и власть. Вы, наверное, чувствуете себя, как шут при королевском дворе – в полной безопасности. Вам же все прощают…
– Точно! – воскликнул Давыдов, изображая радость.
На самом деле он некоторое время раздумывал, не устроить ли прямо сейчас безобразную сцену с мордобитием, но представил себе, с каким ликованием этот литературный червь от критики получит телесные повреждения и начнет всем демонстрировать разбитый пятак, и от интересной в общем-то мысли отказался.
– Конечно же вы правы! И какое точное, исторически оправданное сравнение! Шут при дворе! Мне все можно! Низкий жанр! Прекрасное положение, господин Кротов! Не находите? Могу говорить что хочу! Писать что хочу! Ездить куда хочу! И нет надо мною ни цензора, ни главного редактора. Я имею право быть неполиткорректным. Меня за это не уволят, потому что я нигде не работаю. И обязательно где-нибудь издадут, потому что меня с удовольствием читают. Не у вас, конечно, но, как выяснилось, это не самое большое горе. Великое преимущество автора жанровой литературы – меня никто не принимает всерьез, но зато все читают! А если читают, то и переводят. А если переводят, то, значит, продают. А вас и ваших протеже конечно же принимают всерьез, но, увы… Улавливаете разницу?
Кротов криво усмехнулся, рассматривая оппонента, как высший примат рассматривает какого-то земляного червяка, только что обнаруженного в куче палых листьев, но ничего не ответил.
– Значит, для вас, Давыдов, наступили золотые времена? Остались без конкурентов?
«Вот скажу. Да и хрен с ним! – подумал Денис, ухмыляясь в ответ. – Наткнуться бы на него без свидетелей, вечерком… Нет. Не получится. Убежит. Да и нельзя – Европа все-таки! Но как же чешутся руки…»
– Конечно же, господин Кротов! А еще мы остались без вас, о чем жалеем с утра до вечера. И без возможности хвалить мудрость вождя! И без необходимости поддерживать его политику!
– Вы, Давыдов, – сказал Кротов, ухмыляясь, – теперь поддерживаете другую сторону. Заокеанскую. Вам так удобнее. И хвалите своих новых вождей. Но при этом пишете на русском! И рано или поздно вам ваши новые хозяева это припомнят!
Девочка, переводившая разговор на польский, с недоумением посмотрела на Дениса, зрители на стенде возмущенно загудели.
Денис сделал успокаивающий жест рукой.
– Понимаете, Кротов, язык – не ваша собственность, и слава Богу. Это язык миллионов моих земляков, моих родителей. Это язык моей мамы, а вы пытаетесь сделать его языком врага. Я понимаю, что вам неприятно, что меня читают и в Варшаве, и в Москве, и в Киеве. Но вам придется с этим смириться и жить. А кто мне и чего припомнит, я уж как-нибудь сам разберусь. С вами мы на сегодня закончили… Переходим к следующему вопросу.
Давыдов медленно разжал кулаки. На ладонях остались следы от ногтей.
– Господин Давыдов!
Незнакомая женщина лет тридцати пяти – сорока, лицо такое незапоминающееся, что хоть раз сто встречай, не узнал бы – набор среднестатистических черт, накрытый сверху жиденьким каре мышиного цвета. Одета, правда, ярко, но и это не спасает. На бейдже что-то написано: синие буквы на желтом фоне, наверное, название газеты, но какой именно – не разглядеть, да и не важно.
Важно улыбаться.
– Вас называют писателем-фантастом, Денис. И в каждой вашей книге есть фантастическое допущение. Почему именно фантастика для вас – основной жанр?
Голос у нее несколько лучше внешности, но не намного, хотя она пытается припустить чуть хрипотцы для сексуальности, только получается похоже на хронический ларингит. Но вопрос нормальный, без второго дна. Возможно, она даже читала «Факельное шествие». Или «Плохие новости на понедельник».
– А почему нет? Чем фантастика хуже исторической драмы? Или городского романа? Скажите, Анна Каренина существовала в реальности? А каким был Кристобаль Колон, если он был? Тарас Бульба, князь Серебряный, Захар Беркут, д’Артаньян? Кто они? Исторические фигуры, плод воображения авторов? Вот Сенкевич выдумал Богуна или описал? Или и то и другое? Весь мир, который мы помним, выдуман писателями! Мы знаем войну 1812 года по роману Льва Толстого, революцию – по Лавреневу, Бабелю, Алексею Толстому. Все – войны, катаклизмы, великие открытия, научные свершения – для нас сохранили писатели. Кто из обычных людей станет читать хронику, когда есть романы? Восстание Спартака – это Джованьоли, ад – это Данте, Южная Америка – это Маркес. Каким останется в истории политик, зависит не от него и даже не от его дел, а от летописца. Что мы будем вспоминать о событии через 20-30-50 лет, зависит от того, что напишут о нем писатели.
– И журналисты! – не выдержал Кротов. – Между прочим…
Денис решил реплику не игнорировать, но подержал паузу, дожидаясь, пока закончат перевод на польский.
– В первом приближении – и журналисты тоже. Но статья живет несколько часов, в лучшем случае несколько дней или месяцев. Книги более долговечны, особенно хорошие книги. Мир, в котором вы живете сейчас, придуман нами – писателями, уж простите за нескромность! Все вы – если мне придет в голову описать сегодняшнюю встречу – станете плодом моего воображения, оставаясь при том обычными земными людьми! Да, это так… Воображаемое и реальное – это даже не Инь и Янь. Это просто одно и то же, и через несколько лет после того, как события произошли, никто не знает, что придумано, а что нет. Да что там – через несколько лет! Слышали присказку: врет как очевидец?
По залу прокатился легкий смешок.
– Меня считают фантастом, – продолжил Давыдов, улыбаясь, – но я не пишу фантастику. Я пишу о том, что мне интересно, что меня волнует. Мне надо сделать книгу такой, чтобы вы ее запомнили, чтобы порекомендовали прочесть ее вашим друзьям и близким. И если для этого нужно фантастическое допущение, то я с удовольствием его сделаю. И оно станет реальностью для тех, кто роман прочтет, полюбит моих героев и проживет с ними придуманный мною кусок жизни. Это не фантастика, это просто литература. В литературе нет высоких и низких жанров, есть хорошие писатели, которые пишут интересные книги, и плохие писатели, которые пишут книги скучные. Есть люди, не владеющие ремеслом, и люди, ремеслом владеющие. Одних вы будете читать, даже если они напишут телефонный справочник, а других не будете, что бы они ни написали. Первично читатель выбирает не жанр, а рассказчика. Вот и все. Я ответил на ваш вопрос?
Журналистка кивнула.
Денисов посмотрел на часы.
– Господа и дамы, я очень рад был бы беседовать с вами еще несколько часов, но – увы… Моя супруга, – он помахал рукой Карине, сидящей сразу за журналистскими креслами, и она улыбнулась ему в ответ, – уже поглядывает на меня с нетерпением. У нас полтора часа до начала регистрации, и, если мы хотим улететь, нам надо успеть доехать. Все присутствующие знают, что такое варшавские пробки…
По залу пробежал смешок.
– Поэтому очень вас прошу – последние два вопроса и начинайте подходить за автографами. Хорошо?
Публика загудела – тихонько, как разбуженный пчелиный улей. Кто-то потянулся к стенду за книгами, кто-то принялся доставать из сумок уже купленные тома.
– Денис Николаевич!
Давыдов не сразу нашел обладателя громкого, с металлическим отзвуком, голоса – тот стоял чуть в стороне от журналистов, кучковавшихся в правом углу.
Мужчина лет сорок пять – пятьдесят. Высокий. Худой, но не болезненно. Лицо вытянутое, с резкими складками вдоль носа, подбородок острый, губы – одно название: рот похож на разрез. Глубоко посаженные глаза – темные, внимательные. Человек повел головой так, словно ему мешал тугой воротник (точно капитан Овечкин из «Неуловимых»), и пригладил ладонью и без того гладко лежащие, зачесанные назад волосы.
– Да, слушаю вас…
– Вы считаете себя совестью народа? – барышня на русский не перешла, продолжала задавать вопросы на английском, и неплохом английском, надо сказать.
Ох, какая неуемная девица! На барышню, наверное, обиделась!
– Какого народа, барышня? Я в затруднении! Мне повезло родиться и вырасти в Киеве, сейчас мы с женой бываем то в Берлине, то в Барселоне, то в Нью-Йорке… Раньше вот в Москву и Питер ездил, как к себе на дачу, но тут вмешались обстоятельства, ничего не попишешь… И везде у нас друзья, родственники, и везде мы чувствуем себя как дома… Совестью какого народа вы мне прикажете быть? К какой нации себя отнести? Я пишу о людях, не о народах. Меня волнуют не национальные проблемы, а общечеловеческие.
Это была очень зыбкая почва, Давыдов прекрасно понимал, что сейчас подтянется тяжелая артиллерия. Любимый конек – националисты, нацисты, Майдан, переворот, американское влияние и как вы относитесь к событиям в Киеве? Поддерживаете ли вы нынешнюю языковую политику? Вы же пишете на русском, если мы правильно помним? Почему не переходите на соловьиную? И несколько слов про героизацию…
В первое время он переживал и пытался что-то доказывать. Потом злился. Потом свирепел. Теперь же предпочитал иронизировать и отмораживаться.
Все равно каждый раз происходило одно и то же – что во Франкфурте, что в Вильнюсе, что в Варшаве. На стенд приходили старые знакомые (с которыми в свое время был выпит не один литр водки) и, кривя рот, говорили с Давыдовым как с младшим непутевым братом, слабоумным с рождения. Мол, как же это ты так, Давыдов! Ты же наш! Что ты там забыл, предатель?
В Москве и Питере Давыдова теперь не любили – не поддержал идею, манкурт! Ату его! Ату! Книги Дениса давно исчезли из рейтингов, остатки некогда больших тиражей допродавались по складам, критики писали о нем, как о покойнике, который и при жизни-то был графоман графоманом, но публику исхитрился ввести в заблуждение.
И милую барышню сейчас пустили на него, как минный тральщик, чтобы расчистить фарватер для корабля побольше. Интересно, что на этот раз? Кто у нас сегодня главный калибр?
– Разве ваш роман «Факельное шествие» не о национальных проблемах? – это уже прозвучало по-русски. Причем, с московским говорком – Давыдов прекрасно различал акценты.
Денис повернулся на голос.
Это Кротов, «Литературная газета». Он! На линкор или крейсер не тянет, но в качестве противолодочного корабля – вполне. Все-таки выставка в Варшаве, сюда Соловьева не пошлешь! Приходится обходиться рыбками помельче!
Кротов – тот еще кадр! Старый, проверенный, верный – настоящий шакал пера! Грузный, потный, с лицом, на котором написано хроническое несварение и многолетний запор. Желчный, злой, сочащийся недоброжелательностью, как гнилое мясо – красной жижей. Давыдов-беллетрист для него всегда был недостаточно высоколоб, но писать о нем приходилось: он модный тренд! Его переводят! У него большие тиражи на западе и в бывших советских республиках, и читатели ходят за ним, как собачья стая за течной сукой! Какая несправедливость – уделять внимание писателю, который не желает писать скучно, не любит интеллектуальную прозу, не смотрит на коллег по цеху, оттопырив нижнюю губу, и не поддерживает нынешнюю идеологию страны, на языке которой, мерзавец, имеет счастье творить!
– Нет, господин Кротов. «Факельное шествие» – не о национальных проблемах: это книга о реинкарнации нацизма. Она о нацизме и нацистах, какими мы видим их сегодня. О том, что они – реальность.
– Очень неполиткорректная книга, – заметил Кротов походя. – Особенно в вашем нынешнем положении и для вашего нынешнего окружения.
Ответ его не интересовал, он заготовил речь заранее.
– Если бы ее написал какой-нибудь политик левого толка, то это было бы в порядке вещей. Но вы не политик, вы автор жанровой литературы, причем в стране, для которой пишете на языке врага. Но вы – разрешенный враг и позволяете себе ерничать, издеваться над серьезными проблемами, зло подначивать и читателей, и власть. Вы, наверное, чувствуете себя, как шут при королевском дворе – в полной безопасности. Вам же все прощают…
– Точно! – воскликнул Давыдов, изображая радость.
На самом деле он некоторое время раздумывал, не устроить ли прямо сейчас безобразную сцену с мордобитием, но представил себе, с каким ликованием этот литературный червь от критики получит телесные повреждения и начнет всем демонстрировать разбитый пятак, и от интересной в общем-то мысли отказался.
– Конечно же вы правы! И какое точное, исторически оправданное сравнение! Шут при дворе! Мне все можно! Низкий жанр! Прекрасное положение, господин Кротов! Не находите? Могу говорить что хочу! Писать что хочу! Ездить куда хочу! И нет надо мною ни цензора, ни главного редактора. Я имею право быть неполиткорректным. Меня за это не уволят, потому что я нигде не работаю. И обязательно где-нибудь издадут, потому что меня с удовольствием читают. Не у вас, конечно, но, как выяснилось, это не самое большое горе. Великое преимущество автора жанровой литературы – меня никто не принимает всерьез, но зато все читают! А если читают, то и переводят. А если переводят, то, значит, продают. А вас и ваших протеже конечно же принимают всерьез, но, увы… Улавливаете разницу?
Кротов криво усмехнулся, рассматривая оппонента, как высший примат рассматривает какого-то земляного червяка, только что обнаруженного в куче палых листьев, но ничего не ответил.
– Значит, для вас, Давыдов, наступили золотые времена? Остались без конкурентов?
«Вот скажу. Да и хрен с ним! – подумал Денис, ухмыляясь в ответ. – Наткнуться бы на него без свидетелей, вечерком… Нет. Не получится. Убежит. Да и нельзя – Европа все-таки! Но как же чешутся руки…»
– Конечно же, господин Кротов! А еще мы остались без вас, о чем жалеем с утра до вечера. И без возможности хвалить мудрость вождя! И без необходимости поддерживать его политику!
– Вы, Давыдов, – сказал Кротов, ухмыляясь, – теперь поддерживаете другую сторону. Заокеанскую. Вам так удобнее. И хвалите своих новых вождей. Но при этом пишете на русском! И рано или поздно вам ваши новые хозяева это припомнят!
Девочка, переводившая разговор на польский, с недоумением посмотрела на Дениса, зрители на стенде возмущенно загудели.
Денис сделал успокаивающий жест рукой.
– Понимаете, Кротов, язык – не ваша собственность, и слава Богу. Это язык миллионов моих земляков, моих родителей. Это язык моей мамы, а вы пытаетесь сделать его языком врага. Я понимаю, что вам неприятно, что меня читают и в Варшаве, и в Москве, и в Киеве. Но вам придется с этим смириться и жить. А кто мне и чего припомнит, я уж как-нибудь сам разберусь. С вами мы на сегодня закончили… Переходим к следующему вопросу.
Давыдов медленно разжал кулаки. На ладонях остались следы от ногтей.
– Господин Давыдов!
Незнакомая женщина лет тридцати пяти – сорока, лицо такое незапоминающееся, что хоть раз сто встречай, не узнал бы – набор среднестатистических черт, накрытый сверху жиденьким каре мышиного цвета. Одета, правда, ярко, но и это не спасает. На бейдже что-то написано: синие буквы на желтом фоне, наверное, название газеты, но какой именно – не разглядеть, да и не важно.
Важно улыбаться.
– Вас называют писателем-фантастом, Денис. И в каждой вашей книге есть фантастическое допущение. Почему именно фантастика для вас – основной жанр?
Голос у нее несколько лучше внешности, но не намного, хотя она пытается припустить чуть хрипотцы для сексуальности, только получается похоже на хронический ларингит. Но вопрос нормальный, без второго дна. Возможно, она даже читала «Факельное шествие». Или «Плохие новости на понедельник».
– А почему нет? Чем фантастика хуже исторической драмы? Или городского романа? Скажите, Анна Каренина существовала в реальности? А каким был Кристобаль Колон, если он был? Тарас Бульба, князь Серебряный, Захар Беркут, д’Артаньян? Кто они? Исторические фигуры, плод воображения авторов? Вот Сенкевич выдумал Богуна или описал? Или и то и другое? Весь мир, который мы помним, выдуман писателями! Мы знаем войну 1812 года по роману Льва Толстого, революцию – по Лавреневу, Бабелю, Алексею Толстому. Все – войны, катаклизмы, великие открытия, научные свершения – для нас сохранили писатели. Кто из обычных людей станет читать хронику, когда есть романы? Восстание Спартака – это Джованьоли, ад – это Данте, Южная Америка – это Маркес. Каким останется в истории политик, зависит не от него и даже не от его дел, а от летописца. Что мы будем вспоминать о событии через 20-30-50 лет, зависит от того, что напишут о нем писатели.
– И журналисты! – не выдержал Кротов. – Между прочим…
Денис решил реплику не игнорировать, но подержал паузу, дожидаясь, пока закончат перевод на польский.
– В первом приближении – и журналисты тоже. Но статья живет несколько часов, в лучшем случае несколько дней или месяцев. Книги более долговечны, особенно хорошие книги. Мир, в котором вы живете сейчас, придуман нами – писателями, уж простите за нескромность! Все вы – если мне придет в голову описать сегодняшнюю встречу – станете плодом моего воображения, оставаясь при том обычными земными людьми! Да, это так… Воображаемое и реальное – это даже не Инь и Янь. Это просто одно и то же, и через несколько лет после того, как события произошли, никто не знает, что придумано, а что нет. Да что там – через несколько лет! Слышали присказку: врет как очевидец?
По залу прокатился легкий смешок.
– Меня считают фантастом, – продолжил Давыдов, улыбаясь, – но я не пишу фантастику. Я пишу о том, что мне интересно, что меня волнует. Мне надо сделать книгу такой, чтобы вы ее запомнили, чтобы порекомендовали прочесть ее вашим друзьям и близким. И если для этого нужно фантастическое допущение, то я с удовольствием его сделаю. И оно станет реальностью для тех, кто роман прочтет, полюбит моих героев и проживет с ними придуманный мною кусок жизни. Это не фантастика, это просто литература. В литературе нет высоких и низких жанров, есть хорошие писатели, которые пишут интересные книги, и плохие писатели, которые пишут книги скучные. Есть люди, не владеющие ремеслом, и люди, ремеслом владеющие. Одних вы будете читать, даже если они напишут телефонный справочник, а других не будете, что бы они ни написали. Первично читатель выбирает не жанр, а рассказчика. Вот и все. Я ответил на ваш вопрос?
Журналистка кивнула.
Денисов посмотрел на часы.
– Господа и дамы, я очень рад был бы беседовать с вами еще несколько часов, но – увы… Моя супруга, – он помахал рукой Карине, сидящей сразу за журналистскими креслами, и она улыбнулась ему в ответ, – уже поглядывает на меня с нетерпением. У нас полтора часа до начала регистрации, и, если мы хотим улететь, нам надо успеть доехать. Все присутствующие знают, что такое варшавские пробки…
По залу пробежал смешок.
– Поэтому очень вас прошу – последние два вопроса и начинайте подходить за автографами. Хорошо?
Публика загудела – тихонько, как разбуженный пчелиный улей. Кто-то потянулся к стенду за книгами, кто-то принялся доставать из сумок уже купленные тома.
– Денис Николаевич!
Давыдов не сразу нашел обладателя громкого, с металлическим отзвуком, голоса – тот стоял чуть в стороне от журналистов, кучковавшихся в правом углу.
Мужчина лет сорок пять – пятьдесят. Высокий. Худой, но не болезненно. Лицо вытянутое, с резкими складками вдоль носа, подбородок острый, губы – одно название: рот похож на разрез. Глубоко посаженные глаза – темные, внимательные. Человек повел головой так, словно ему мешал тугой воротник (точно капитан Овечкин из «Неуловимых»), и пригладил ладонью и без того гладко лежащие, зачесанные назад волосы.
– Да, слушаю вас…