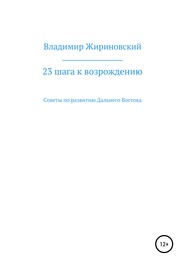По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Утомленная планета
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С началом промышленной эры концентрация диоксида углерода возросла с 280 до 360 частей на миллион. При дальнейшей индустриализации и росте экономики антропогенные выбросы парниковых газов должны удвоиться в следующие 50—60 лет. А при известных условиях, может быть, и утроиться и даже учетвериться перед их стабилизацией.
В докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) при ООН, следствием роста антропогенного выброса парниковых газов, в первую очередь двуокиси углерода, концентрация которого в атмосфере увеличилась на 25 процентов в сравнении с доиндустриальной эпохой, будет удвоение его содержания к 2050—2070 годам, в случае непринятия решительных мер по сокращению эмиссии СО2.
Количество углерода, ежегодно выбрасываемого в атмосферу в результате антропогенной деятельности, оценивается в 6 млрд тонн в год, из которых вклад России составляет в настоящее время примерно 11 процентов (650—700 млн тонн). Есть основания прогнозировать сохранение этого уровня в связи с сокращением потребления органического топлива в 2015— 2020 годах и падению на него цен.
Правительственные эксперты рассчитали и саму структуру выбросов парниковых газов. Из этих цифр следует, что наименьшие удельные выбросы обеспечиваются при энергетическом использовании природного газа. В топливно-энергетическом балансе России природный газ составляет более 40 процентов среди различных видов органического топлива. Это почти вдвое выше, чем в мировом топливном балансе (25 процентов). Структура российской энергетики с точки зрения воздействия на климатические изменения оказывается более нейтральной в сравнении с энергетикой других стран. Очень важный вывод. Его всем нам без исключения надо постоянно держать в виду и напоминать на каждой встрече, будь то с участием или без участия экологов.
Отечественные министерства и ведомства клятвенно заверяют нас, что и впредь сделают все от них зависящее, чтобы, во-первых, до 2050 года как минимум, сохранить объемы выбросов парниковых газов на уровне 1990 года. А во-вторых, перейти, и как можно скорее, на ресурсосберегающие технологии, щадящие производства. Промышленность уже имеет эффективные технологии для внедрения по сокращению выбросов вредных веществ, включая парниковые газы, и программы снижения энергозатрат.
Например, реализация программы замены технологий в энергетике России потребует около 20 лет, в транспорте – от 3 до 10 лет. В металлургии разработана программа, позволяющая в ближайшие несколько лет сократить вредные выбросы в атмосферу на 25 процентов. Имеющиеся в наличии уже разработанные технологии в химической промышленности позволяют снизить энергозатраты почти на 20 процентов. Аналогичные программы разрабатываются и по другим отраслям экономики.
Это, как говорится, одна сторона медали. Есть и другая. Со школьной скамьи мы знаем, что жизнь на Земле помимо суши и воды зависит от кислорода или, как мы, школьники, говорили, от воздуха. Есть воздух—кислород, будет жизнь, нет его – сливай воду. Наша планета окружена плотным озоновым слоем. Озон – это видоизменение кислорода, и концентрируется он на высоте 19—23 километров над поверхностью Земли. Именно озон обладает той самой уникальной возможностью, от которой зависит биота нашей планеты,– способностью поглощать вредные ультрафиолетовые излучения Солнца.
Чем эти излучения опасны для человека? Их повышенная концентрация ведет к увеличению частоты повреждения ДНК – нарушению нашего генетического кода, ослаблению иммунной системы живых существ, возникновению рака кожи, заболеваниям сетчатки глаза и т.д. Так вот, согласно расчетам тех же специалистов, усиление процесса разрушения стратосферного озона всего лишь на 1 процент ведет к увеличению случаев заболевания катарактой на 0,6—0,8 процента.
Кто-то скажет, мол, ерунда, ну заболеет еще несколько миллионов человек катарактой. Остальные-то будут видеть. Для таких «оптимистов» приведу другой контрдовод. Разрушение озонового слоя Земли более чем на 1 и выше процент приведет к гибели фитопланктона. Мореплаватели знают, что это такое. Фитопланктоном питается все живущее и существующее в мировом океане. Его гибель обернется нарушениями в фотосинтезе растений. Словом, наступит тот самый конец света, который перед началом XXI столетия предрекали все религиозные экстремисты.
Причины нарушений озонового слоя Земли далеко неоднозначны. Еще в 1974 году американские ученые Поль Крутцер, Роулэнд Шервуд Роулэнд и Марио Молина обнародовали теорию, по которой виновниками разрушения озона являются хлор и бромсодержащие вещества. Именно они используются в качестве хладагентов в холодильном оборудовании, распылителей или, по-научному, пропиленов в аэрозолях, огнега- сителей, растворителей и дезинфицирующих веществ. В России такие вещества называют обычно хладонами. В остальном мире – фреонами и галонами в соответствии с торговыми марками производителя подобных веществ американской компании «Ду Понт».
Борьба против производства озоноразрушающих веществ в мире началась в 60-е годы ХХ века. К концу 70-х кое-чего удалось достичь. Одними из первых прекратили выпуск озоноразрушителей США. Резко снизили
объемы Швеция, Норвегия и Канада. Немаловажную роль сыграла Венская конвенция об охране озонового слоя. Был подписан Монреальский протокол, предусматривающий полное прекращение хлорфтор- углеродов промышленно развитыми странами, было предписано прекратить производство галонов. Так называемым развивающимся странам, к которым де-факто относится сегодня и Россия, предоставили отсрочку. К началу 2001 года Венскую конвенцию и Монреальский протокол подписали 175 стран, то есть фактически все страны мира. Разумеется, что и мы, то есть Россия, не остались в стороне.
В результате в XXI век мировое сообщество вошло с большей уверенностью, чем в ХХ.
ЛИЧНОСТЬ
Что такое личность? Вопрос весьма правомерный. Ни для кого не секрет, что сперва закат КПСС, а затем и ее бесславный уход, как и столь же нелепый, потому что добровольный уход с политической арены царствовавшей в течение 300 лет династии Романовых, во многом был спровоцирован именно личностным фактором. КПСС, также как и самодержавие, на протяжении десятилетий обвинялась в «тоталитаризме» и «отсутствии демократии», что, в конечном счете, подразумевало «отрицание прав личности».
Абсурд всех этих обвинений или, точнее, корысть всех тех, кто этими обвинениями жонглировал как при свержении Николая II, так и при шельмовании КПСС, после десятилетнего правления Ельцина и К° очевиден даже участникам самой этой компании. Более наглого политического режима, чем ельцинизм, в России не было никогда. Этот режим отверг не просто какие-то там мифические права (право на что? или право для чего?), но самое главное, он отверг право на жизнь личности.
Кто-то со мной не согласится. Скажет, что, мол, при Ельцине никого не сажали, тем более не убивали за длинный язык или не за ту биографию. В России были Иван Грозный, Петр I, наконец, совсем недавно режим сталинизма. Вот это, мол, да. Тут-де действительно стояла мясорубка. Трещали не только чубы у холопов, но и косточки у их господ. Отвечу на этот возможный разброс мнений.
Согласен, что Ельцин лично никого пальцем не тронул. Он не учреждал опричнину, как Грозный. Не казнил тысячами стрельцов, как Петр I. Не уничтожал политических противников в ГУЛАГе, как Сталин. Но Ельцин – и здесь неважно его личное участие или неучастие – прикрыл, как говорится, «зонтиком» своего президентства все те безобразия, грабежи и насилие, которые как раз и исключили из жизни, что называется, при жизни две трети 150-миллионного населения России. Таким порядком цифр в отношении попрания прав личности не оперировали ни Грозный, ни Петр I, ни Сталин.
К тому же следует отметить, что Ельцин узаконил в правах тех личностей, которые разграбили и уничтожили славу России, унизили, как было сказано, две трети русского и других народов. А вот упомянутое мною «трио баянистов» русской истории, наоборот, поразило в правах тех личностей, которые как раз и норовили подорвать авторитет России, в силу объективно-исторических обстоятельств, а не просто из-за своих личных амбиций. Грозный приструнил институт удельных князей и отчасти боярства. Дал право на жизнь служивому дворянству как сословию, а не просто личной гвардии царя, представителей его дружины, как это было до Грозного. Петр I фактически довершил начатое Грозным, дав дорогу наверх действительно тем, кто обладал не только родовитостью, но и способностями к служению России.
Сталин смел со сцены истории когорту так называемых пламенных революционеров и их ближайших последователей, кстати, смел вместе с родственниками, за что ему большое спасибо. Именно тех, кто был обуреваем единственной страстью – все разрушать, как там пелось в их гимне, «До основанья, а затем…». Кстати, в подлиннике «Интернационала», написанном в 1870 году французом Эженом Потье и взятом в качестве гимна участниками Парижской коммуны, этих слов нет. Их произвольно включил в текст переводчик «Интернационала» на русский язык еврейский большевик Кац. Так что русским и здесь подсунули настоящую туфту, чтоб не сказать крепче. Вот так всегда нам подсовывают, чтоб мы потом мучились. Одно, два, пять поколений пережевывали это подсунутое и в конце концов отбросили его как не наше, а их, местечковое.
Сталин взамен пламенных революционеров выдвинул могучую когорту выходцев с самых низов общества. Не из люмпенов, как Ленин в октябре 1917-го и в годы гражданской, а из крестьян и рабочих. На XVII съезде ВКП (б) в 1934 году, как раз в канун убийства Кирова, Сталин говорил, что нам надо заменить 500 тысяч партийных, государственных и прочих функционеров. И он их заменил в течение последующих пяти лет. Опять-таки как раз в канун Великой Отечественной войны. И не ошибся.
Сужу опять же по себе. За последние десятилетия я прочитал, услышал и увидел столько отзывов и мнений о самом себе, что впору составить из этих отзывов эдак томов 20—25 – каждый страниц по 400—500. И все равно будет мало. Но ни в одной из попыток раскрыть мои человеческие и личностные качества так и не оказалось существа. Не была раскрыта моя суть. Да я и сам порой теряюсь в разгадках собственной личности. Не мною сказано, что человек творит сам себя. Отсутствие этой творческой инициативы – верный признак ограниченности личности, а может быть, и банальной неполноценности. Явление сплошь и рядом встречающееся в наше столь утомительное время.
Я сотворил себя сам. Со школьной скамьи я лепил свою личность. Меня били, пинали, унижали. Я утирался рукавом изношенного и залатанного мамой пиджака и продолжал «лепить». Вот почему я и по сей день твердо стою на ногах. Научился держать удар. А точнее – удары. Со всех сторон. Но не только держать, а и вовремя и точно отвечать на удары. Без этого в жизни, а тем более в политике, делать просто нечего. Я обладал определенной суммой данных, прежде всего физических. Мой рост не 154 сантиметра, как у Наполеона и Сталина, не 165 сантиметров как у Ленина и Хрущева, а 180 сантиметров. Выше среднего. Значит, никаких физических комплексов неполноценности я не испытывал. В отличие, скажем, от педераста Энгельса и революционеров, наподобие недоучек Зиновьева или Бухарина, я обладаю двумя университетскими дипломами. Я никого и никогда в своей жизни не предал, как, например, предали КПСС и ее рядовых членов выкормыши этой партии, всем в жизни обязанные именно КПСС,– Горбачев и Ельцин.
Я никогда никому не завидовал. Говорю это без всякой патетики или, тем более, рисовки. Зачем и перед кем мне рисоваться? Я ни в чем не нуждаюсь, ни физически, ни материально, ни духовно. У меня есть все, что нужно современному человеку: семья, сын, внуки. В политике – ЛДПР, известность. Я последовательно добился всех целей, которые ставил перед собой. Кто- то может сказать: выходит, ты, Владимир Вольфович, счастливый человек. И тут начинается самое непонятное, по крайней мере для меня. Я не знаю, что такое счастье.
Пушкин сказал когда-то гениальные слова: «На свете счастья нет. Но есть покой и воля». А? Понимаешь, читатель, – покой и воля. Нет, не свобода, не некие там опять же таки мифические права личности, а именно воля.
В свое время Лев Толстой справедливо критиковал «Историю России с древнейших времен», написанную Сергеем Михайловичем Соловьевым, именно по причине ее элитности. Автор «Войны и мира» резонно заметил, что «История» показывает жизнь и деятельность русских царей, отчасти – дворцовой аристократии. Возникает законный вопрос: а кто же кормил, одевал, наконец, реализовывал великие и не столь великие планы самодержцев и их челяди? Где те самые «кухарки» и «кухаркины дети», которым обещал передать власть Ленин со товарищи? Они в соловьевской «Истории» попросту отсутствовали.
Проблема верхов и низов побуждает меня выйти на еще один серьезный срез вопросов-ответов. Прежде всего, самый обычный: почему кто-то вдруг оказывается вверху, а кто-то – внизу? Марксисты-ленинцы все это сводили к классовой борьбе. Принадлежишь ты к господствующему классу – значит, вверху, к угнетенному – значит, внизу. Изменить ситуацию можно, перевернув все вверх дном, то есть совершив революцию. Тогда кто был никем, становится, условно говоря, всем. Но выше я показал, что такая модель не работает. Да, действительно, сперва так и происходит. Свергают господствующий класс. Приходит угнетенный. Проходит время, и среди пришедшего угнетенного происходит раздел. Выдвигается группа, условно говоря, господствующая. Она со временем становится господствующей реально, а не условно. Все повторяется, только каждый раз с другим набором исполнителей.
Ну, о гениях как личностях чуть ниже. А вот что касается типологии современных людей, я хотел высказаться поопределеннее. Уважаемый читатель, давай мы с тобой попробуем ответить на такой, по-моему, у всех на слуху вопрос: что сегодня выделяется, прежде всего, из той информации, которую получает каждый из нас?
Правильно – нервозность. Все или почти все, кто еще не умер или не прикован к постели, стали психами. Все беспокоятся. Никто не доволен. Всем все не нравится. Ничего нельзя гарантировать. Ничто невозможно удержать, утекает между пальцами рук, едва их коснувшись. Нет ничего драгоценного или, говорила моя мама, святого. Подавляющему большинству людей все по фигу. Отсюда и неологизм, то есть новое слово, в русском языке – «пофигизм». Любители и знатоки дают этому слову свои, более им понятные транскрипции, но суть от этого не меняется.
ОБЩЕСТВО
Маркс и Энгельс еще при жизни застали зарю индустриальной эпохи. Для нее характерно господство машинной техники. Отношения между классами практически не изменились, но внутри них начали происходить заметные перемены. Мускульный труд постепенно вытеснялся, менялся характер труда рабочего, а вслед за ним и крестьянина. Росла производительность труда. Расширялся слой инженерно-технической интеллигенции. Труд, если так можно сказать, заметно поумнел. Во все большую цену в обществе входили знания, особенно технического профиля.
Я в детстве застал расцвет этого индустриального общества у нас в СССР. Как сейчас помню, поголовное обучение. Учились все – от мала до велика. Учились днем и вечером. Тогда вошли в обиход вечерние школы рабочей молодежи. Все что-то конспектировали. У каждого в руках были учебники по химии, физике, алгебре. Меня это все совершенно не интересовало. К техническим дисциплинам я до сих пор испытываю, мягко говоря, аллергию. Но я видел, с каким увлечением всем этим занимались вокруг меня мои старшие сверстники. Самым уважаемым человеком для нас, пацанов, был – жутко выговорить! – инженер. У него была зарплата едва ли не полторы, а то и две тысячи рублей в месяц. Огромные по тем временам деньги, если не забывать, что машина «Победа» – сегодняшний аналог по значимости в обществе «Мерседеса-600» – стоила 16 тысяч рублей. На волне этой увлеченности страна поднялась из военной разрухи как на дрожжах.
Но еще лучше помню и другое время, другие песни и увлечения,– полнейшую девальвацию инженернотехнического труда. Инженер с конца 60 – середины 70-х годов постепенно превращался во второразрядную фигуру в нашем обществе. Вместе с этим печальным превращением происходили необратимые сдвиги и в самом обществе. На первые места вышли не те, кто действительно составляли ум, честь и совесть нашей эпохи, а люди с весьма жуликоватыми наклонностями, те, кто стоял у так называемого распределителя – должностей, продуктов, машин и прочих «нетленных ценностей», за которые готовы были глотку перегрызть.
Это сегодня я понимаю, что такое позорное явление явилось отражением или следствием более глобального и масштабного события: СССР, ведомый «направляющей и руководящей силой общества» – КПСС, бездарно проспал третью научно-техническую революцию в мире, которая означала выход на электронные технологии, на производство, построенное по ресурсосберегающим моделям, в котором центр тяжести переносился на знания, интеллект. Наука становилась главной производительной силой. Рутинные мускульно-машинные функции уступили место творческим. Иначе говоря, не «салариат» (от фр. §а1апа1 – лица наемного труда, оплата труда по найму), а «когнитариат» (неологизм, образованный также от фр. содпШоп – познавательная способность) – ученые, инженеры, специалисты, достаточно независимые благодаря своему интеллектуальному уровню. Они вышли на передовые рубежи в производстве и, соответственно, в обществе. В этих переменах и заключается смысл постиндустриального общества, которое сегодня доминирует в странах «золотого миллиарда».
Главным действующим лицом становится компьютер. «Владеешь компьютером?» – первый вопрос, который сегодня задают всем без исключения, молодым и не очень, специалистам. И действительно, трудно назвать область производства, которая не подверглась бы компьютеризации. Отпали за ненадобностью кульманы, ватманы, макеты, пробы в металле и т.д. и т.п. Гибкость производства достигла небывалых пределов. Серийное производство в странах «золотого миллиарда» составляет всего 1/3, а 2/3 – мелкосерийные изделия (от 10 до 1000 штук), рассчитанные на вкус заказчика.
Телекоммуникации заслонили собой все остальное. Растет бесконечный, как Вселенная, Интернет. Словом, информатизация как следствие интеллектуализации труда превратилась в основной способ производства. В результате, например, только на заводах компании «Дженерал электрик» в материальном производстве занято 40 процентов персонала, остальные – в обслуживающих сферах. В целом по Западу на одно рабочее место в машинно-ручном производстве приходится 3-4 и более мест с умственным характером труда.
В западном обществе идет активный процесс формирования киберкратии (от греч. НЬегиеИке – искусство управления, наука о системах, формах, методах и средствах управления, то есть организации и реализации целенаправленных действий в машинах, живых организмах и обществе).
Киберкратия – это своего рода социальный интеллект. Реализуется через сетевую структуру связей. Ее элементы – информационное поле, социальная память в базах данных, интеллектуальная элита как генератор новых идей, широкий слой специалистов- компьютерщиков, интеллектуальный рынок, обеспечивающий обмен идеями и информацией. Так происходит непрерывная циркуляция интеллектуального общения в культуре, производстве и общественной жизни.
К чему это привело в обществе? Всерьез повели речь о «конце истории», то есть капитализм умер, а вместе с ним закончилась и вся человеческая история. Частная собственность перестала казаться чем-то чрезвычайно важным. Наемные работники стали заменяться – превращаться в свободных производителей, капиталисты уступили место менеджерам, то есть обыкновенным управленцам. Возникла некая информационная демократия, потеснившая собственно бюрократию и обеспечившая через информационные сети доступ каждому к ситуации на рынке, выбору товаров, контактов со всеми, кто нужен, вплоть до политической информации.
Наконец, заговорили о возможности все спрогнозировать и таким способом привести к общему знаменателю потребности людей, обеспечить их экологическую безопасность. Словом, не капитализм с его вековыми пороками, а «облако в штанах», как метко заметил Маяковский.
Однако очень скоро эйфория кончилась. Все встало на свои места, хотя и в значительно преобразованном виде.
Во-первых, усилилась безработица. Один робот в среднем заменил четверых работников. В той же «Дженерал моторс» персонал сократили вдвое при неизменных объемах выпуска продукции. Персонал сталелитейных компаний в США уменьшился в 6 раз.
Во-вторых, стремительно размывается гордость США, так называемый средний класс, составлявший в 50-70-е годы 60 процентов населения страны.
В-третьих, усилилась поляризация общества по уровню доходов. Пятая часть семей американцев сконцентрировала в своих руках 80 процентов национального богатства, причем 1 процент этой пятой части владеет 40 процентами всего достояния страны. Во всем мире доходы 20 процентов самых богатых превосходят доходы 20 процентов самых бедных в 60 раз.
В-четвертых, предполагается полное исчезновение фермерства. Его заменит продукция биотехнологий.
В-пятых, семимильными шагами идет концентрация капитала в форме образования ТНК – транснациональных компаний. Пять из них контролируют половину производства товаров длительного пользования, самолетов, электроники, автомобилей и др., 2—3 компании контролируют международную сеть телекоммуникаций и т.д.
В-шестых, не виданные прежде размеры приобрели валютные спекуляции. С момента прекращения обеспечения доллара золотом (начало 70-х годов) количество так называемых виртуальных денег, то есть кредитов, выпускаемых частными банками, имеющими лицензию на эмиссию, возросло до катастрофических размеров. Величие доллара, как и других западных валют, оказалось призрачным. В случае если кредитор или вкладчик затребует свои кредиты/вклады, их нечем будет выплатить. Наступит финансовый коллапс.
Пробные шары уже запускались. 2008 – мировой финансовый кризис. 1998 год – обвал в Юго-Восточной Азии и у нас, в России. Ранее эти манипуляции проделывались в отношении стран Латинской Америки (Мексика, Аргентина, Бразилия).
Растет криминализация Запада, идущая рука об руку с наркотизацией. Продажа всех видов наркотиков, в сравнении с 70-ми годами, возросла в 50 раз. Лишь только в США и Европе их продается на 200 млрд долларов в год! Прибыль наркодельцов – 800 процентов. А мы знаем еще по «Капиталу» Маркса, что происходит с капиталом не при 800, а всего лишь при 100 процентах прибыли. Он сходит с ума и готов на любые преступления.
Это внутри «золотого миллиарда». Вовне его происходят не менее гадкие явления. К началу XXI века доля 20 процентов богатых стран в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) возросла на 13 процентов: с 70 до 83. Доля бедных стран, наоборот, снизилась с 2,3 до 1,4 процента, то есть разрыв в 60 раз. В условиях абсолютной нищеты, то есть голодают, живут 800 миллионов человек. Из 140 миллионов родившихся детей ежегодно от голода умирают 14 процентов.