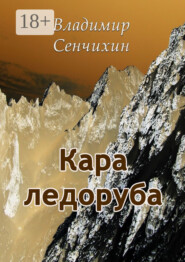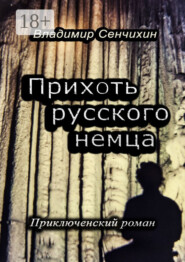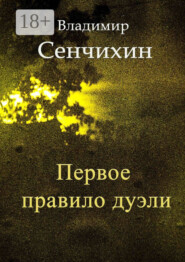По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Беседы с усопшими, или Гримасы славы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У древних философов нет мнения относительно обмана как такового. Платон, хоть и с оговорками, приемлет полезное враньё: «Уж кому—кому, а правителям государства надлежит применять ложь – как против неприятеля, так и ради своих граждан, ради пользы своего государства, но всем остальным к ней прибегать нельзя. Если частное лицо станет лгать собственным правителям, мы будем считать это таким же – и даже худшим – проступком, чем ложь больного врачу».
Аристотель признаёт, что «обман сам по себе дурен и заслуживает осуждения», но вослед Платону допускает ложь во спасение. Если тиран заточил в темницу супружескую пару и требует выдать местонахождение сына, то почему бы им и не соврать.
Цицерон категорически против несправедливости и придает ей юридическую окраску. Философ указывает, что обман свойственен лисице, а насилие – льву. «И то и другое совершенно чуждо человеку, но обман более ненавистен». В то же время он увязывает нравственность с полезностью. Ложная клятва пирату – не повод каяться в проступке.
Их громит Иммануил Кант в эссе «О мнимом праве лгать из человеколюбия». Он утверждает, что «ложь всегда вредна кому-нибудь, если не отдельному лицу, то человечеству вообще, ибо она делает неприменимым самый источник права». По мнению Канта, «тот, кто лжет, какие бы добрые намерения он при этом ни имел, должен отвечать даже и перед гражданским судом и поплатиться за все последствия».
«Правдивость есть долг, который надо рассматривать как основание всех опирающихся на договор обязанностей, и стоит только допустить малейшее исключение в исполнении этого закона, чтобы он стал шатким и бесполезным». Кант непреклонен: правдивость – «священная, безусловная повелевающая и никакими внешними требованиями не ограничиваемая заповедь разума». По его словам, «долг говорить правду» – безусловный, независимый от личности. Особенно мне нравится следующее высказывание Канта: «Не право к политике, но, напротив, политика всегда должна применяться к праву».
В какой-то мере я согласен с мнением уважаемых мною древнегреческих философов, хотя само понятие «ложь» размывается ими до такой степени, что трудно определить границу между искажением истины и правдой. Можно оспаривать и категоричность Канта. Но вот что меня удивляет. Люди устроены своеобразно. Когда на них возводят напраслину, они, задыхаясь от негодования, вопиют о безнравственности распространителей слухов и о скудоумии тех, кто им верит. Но если клевета не касается их лично, безоговорочно доверяют выдумкам.
Вот на чем основана убеждённость в том, что именно Герострат непосредственно причастен к погибели храма? В том, что одно из семи чудес света античности сгорело дотла, нет никаких сомнений, но по какой причине и как оно выглядело до пожара, доподлинно не знает никто.
Первоисточником служат труды историка Валерия Максима. Рассуждая о земной славе, он указывает, что она всеядна и, кроме достойных, «трогает людей самого подлого состояния». Далее он вспоминает Павсания, телохранителя Филиппа (отца Александра Македонского). Этот никому не известный ничтожный страж зарезал царя в театре. Чем же руководствовался Павсаний? Спустя тысячи лет после этого события историки выдвигают множество версий, однако ни одна не выглядит убедительной. У Валерия Максима собственная точка зрения. Он пишет, что когда Павсаний поинтересовался, как прославиться, ему посоветовали убить знатного человека, поскольку «слава оного к нему обратится». Павсаний, недолго думая, тотчас убил самого известного в Македонии человека и получил, что искал: «Учинил себе известность столько же злодейским убийством, сколько и добродетелью Филиппа».
Об этом прискорбном происшествии Валерий не зря вспоминает. Далее он переходит к описанию святотатственного желания славы. «Нашелся такой человек, который вознамерился сжечь храм Дианы Эфесской, чтобы его имя стало известным во всем мире. Однако такое неистовство в мыслях показал он только под пытками. Эфесцы разумно поступили в этом деле, истребив память о нем молчанием, и никто бы не узнал, ежели бы Феопомп по великому своему красноречию и разуму не внёс оного в свои повествования», – пишет Валерий. Вполне вероятно, что в то время труды историка Феопомпа были на слуху и Валерий не указал имя поджигателя исходя из моральных соображений. Книги Феопомпа не уцелели, зато имеется «География» Страбона, в которой автор пишет: «Первым строителем храма Артемиды был Херсифрон, затем другое лицо его расширило. После того как некий Герострат сжег храм, граждане воздвигли другой, более красивый, собрав для этого женские украшения, пожертвовав своё собственное имущество и продав колонны прежнего храма».
Делать вывод о виновности Герострата на основании таких скудных сведений по меньшей мере опрометчиво, а потому я выбрал наиболее приемлемый вариант – оказаться в Эфесе неподалеку от сгоревшего храма и узнать подробности у местных жителей.
Судя по описаниям древних историков, храм в честь Артемиды поражал величественностью и стройной геометрией: расположенные по периметру в два ряда сто двадцать мраморных колонн высотой восемнадцать метров легко несли на своих плечах увесистую крышу. Что было внутри, никто не знает, могу предположить, что убранство ничем не уступало впечатляющему внешнему виду.
Раннее утро, пред глазами печальное и поучительное зрелище. Крыша обвалилась, растолкав величественные колонны – одни покосились, другие разбились на куски. От скорбного пожарища, окутанного черным дымом, исходит неприятный запах. Размышляю. Внутри этой громадины была адская температура. Но чему в ней гореть, если внизу – сплошной мрамор, а до деревянных перекрытий наверху огонь вряд ли бы добрался. Среди простолюдинов, скорбно взирающих на останки храма, замечаю двух мужчин, не принадлежащих к низшему сословию. Один из них, благообразный, чернобородый, горбоносый и приземистый, в длинной зеленоватой тунике, напоминает борца, наделенного чересчур длинными и мускулистыми руками. У второго туника чуть выше колен, поверх наброшена хламида. Он высок и худосочен, на ногах сандалии, лодыжки препоясаны кожаными ремнями. Хоть и говорят, что с лица воду не пить, не думаю, что у жителей Эфеса этот человек вызывает симпатию: перекосивший лицо косой фиолетовый шрам на щеке, затекшее правое веко и рот в щелочку.
– Больше ста лет строили, Херсифрон (древнегреческий зодчий шестого века до нашей эры, родом из Кносса на Крите) со своим сыном Метагеномом в гробах переворачиваются, – комментирует борец.
– Вместе с Пеонитом и Деметрием, они тоже руки к строительству приложили, – ворчливо уточняет костлявый собеседник. – Не говоря уже о Крезе, столько денег вбухал.
– Такую красоту, ироды, сгубили.
– Ты о чем? Говорят, Галлус Страт учудил. Его в нижнюю агору (рыночная площадь) уволокли, пританы (члены государственного совета) с ним разбираются.
– Ага, нашли на кого вину свалить. Этот убогий психопат только и может как в голом виде по улицам бегать. Хороша придумка, с дурака взятки гладки. Знаешь, сколько талантов драхмы, золота и серебра в подвале храма сберегалось? И я не знаю. Без смолы и ещё кой—чего тут явно не обошлось.
– Сдурел! – гневно шипит борец, испуганно оглядываясь по сторонам, и переходит на шепот. – А ну как донесут, горя не оберёмся.
– Да пусть клевещут, – отмахивается собеседник, однако на всякий случай осматривается и, заметив меня, мрачнеет. Наклонившись к уху товарища, шепчет:
– Вот увидишь, Страта казнят, а храм перестроят, хотя я бы оставил его в нынешнем запустении: пусть детки любуются и черпают уроки.
Неспешно удаляюсь, радуясь, что вышел на верный след. Перемещаться в пространстве в пределах одного дня несложно, особенно когда известно имя персонажа, с которым хочу поговорить.
Галлус Страт валяется на полу в подвале, лишённом какого-либо убранства. Негостеприимное каменное узилище. Отсутствие света не мешает мне разглядеть страдальца. Выглядит скверно: лежит на боку, руки и ноги безжалостно переломаны, в некоторых местах из смуглой кожи выпирают острые кости. Удивляюсь, что узник все ещё в сознании.
Размышляю, каким образом нарушить его уединение, чтобы он окончательно не свихнулся. Честно говоря, я преуспел в перевоплощениях, если того требуют обстоятельства, могу заговорить и женским голосом, но представляться матерью мученика мне претит. С другой стороны, только она и может смягчить его предсмертные муки. Миллионы мужчин вспоминают своих матерей в минуты наивысшей опасности, что не требует пояснений: отрезанная после родов пуповина в духовном смысле не исчезает и навсегда связует младенца с женщиной, подарившей жизнь.
– Сынок, я с тобой.
Галлус рывком переворачивается на спину, не в силах оторвать отяжелевшую голову от каменного пола. После того, что с ним сотворили, ему надлежит скончаться, а он все ещё сопротивляется, будто хочет в живучести сравняться с богами.
– Мама?
Вытаращив глаза, Галлус усиленно вглядывается в непроглядную тьму.
– Как ты сюда попала?
– Меня пропустили, чтобы с тобой повидалась.
Честно говоря, я сомневаюсь в милосердии тех, кто обрек его на погибель, но, с моей точки зрения, в такой ситуации лучше слегка приукрасить действительность.
– Мама, я умру?
Ох уж эти люди. Меня порой поражает их ничем не оправданный оптимизм. Твердо зная, что никому из смертных не удалось перехитрить Аида, поставившего у ворот в подземное царство неподкупного трехглавого Цербера, они живут так, будто ничем не уступают Зевсу.
– Ну что ты, сынок? Скоро тебя выпустят.
Мне бы возложить ему на лоб всепрощающую материнскую руку, но, увы, я физически лишен такой милосердной возможности. Пора расставаться. Геррус Страт помрет через несколько часов, не узнав, что приобретёт сомнительную всемирную славу.
Когда я рассказал об этом историческом казусе Переговорщику, тот злорадно расхохотался. По его мнению, человечество неустанно сочиняет мифы, в которые само же охотно верит.
Глава четвертая. Цезарь
Ни одна империя в мире не может похвастаться таким количеством императоров, как древнеримская. Их число переваливает за сотню. Однако следует помнить, что титул «император» в ту эпоху означал не должность, а высшее воинское звание – его присваивали военачальникам, одержавшим победу хотя бы в одном значимом для страны сражении. Воевали римляне охотно, в основном с целью расширить свои владения. Первым императором (государем) в его нынешнем толковании считается Октавиан Август – приемный сын Юлия Цезаря. Древнеримский историк и писатель Гай Светоний в книге «Жизнь двенадцати цезарей» хвалит Октавиана: несмотря на мятежи, заговоры и попытки переворотов, «никакому народу не объявлял войны без причин законных и важных. Никогда не начинал сражение или войну, если не был уверен, что при победе выиграет больше, чем потеряет при поражении. Тех, кто домогается малых выгод ценой больших опасностей, сравнивал с рыболовом, который удит рыбу на золотой крючок: оторвись крючок, – никакая добыча не возместит потери. Он так отстроил город, что по праву гордился тем, что принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным. Царства, которыми он овладел по праву войны, почти все вернул прежним их властителям или передал другим иноземцам. Диктаторскую власть народ предлагал ему неотступно, но он на коленях, спустив с плеч тогу, умолял его от этого избавить. Имени „государь“ страшился как оскорбления и позора. Смерть ему выпала лёгкая, какой он всегда желал».
Скончался Октавиан Август в окружении семьи, заранее составив завещание и указав в нём поименно наследников, и даже позаботился о погребении. Он до конца жизни помнил, чем закончил его приемный отец, то бишь Цезарь, и постарался избежать его ошибок и участи.
Я долго размышлял, стоит ли встречаться с такой противоречивой персоной, как Гай Юлий Цезарь. Он появился на свет спустя двести с гаком лет после смерти Александра Македонского и мечтал сравниться с ним в славе. Перейдя мелководную речку Рубикон, Цезарь якобы воскликнул: «Жребий брошен!». Эту фразу до сих пор так настойчиво вбивают в мозги обывателей, что она стала крылатым выражением. Никто через Рубикон ни вплавь, ни вброд не перебирался. Вот что пишет Гай Светоний: «Он настиг когорты у реки Рубикон, границы его провинции. Здесь он помедлил и, раздумывая, на какой шаг отваживается, сказал, обратившись к спутникам: „Ещё не поздно вернуться; но стоит перейти этот мостик, и все будет решать оружие“. Так перевел он войска; и затем, выведя на общую сходку бежавших к нему изгнанников-трибунов, он, разрывая одежду на груди, со слезами стал умолять солдат о верности».
Пытаясь разобраться в рейтингах древнеримских военачальников, задаюсь вопросом, не переоценили ли историки полководческие таланты Цезаря. Тот же Светоний, например, указывает, что «он не упускал ни одного случая для войны, даже несправедливой или опасной, и первым нападал как на союзные племена, так и на враждебные и дикие».
С другой стороны, Светоний на похвалы не скупится. «Во всей междоусобной войне он не понёс ни одного поражения. Терпеть неудачи случалось лишь его легатам. Сам же Цезарь неизменно сражался с замечательной удачей, не зная даже сомнительных успехов, за исключением двух лишь случаев. Оружием и конём он владел замечательно, выносливость его превосходила всякое вероятие. В походе он шел впереди войска, обычно пеший, иногда на коне, с непокрытой головой, несмотря ни на зной, ни на дождь. Самые длинные переходы он совершал с невероятной быстротой, налегке, в наемной повозке, делая по сотне миль в день, преодолевая реки вплавь или с помощью надутых мехов, так что часто опережал даже вестников о себе. Трудно сказать, осторожности или смелости было больше в его военных предприятиях. Он никогда не вел войска по дорогам, удобным для засады, не разведав предварительно местности. В сражения он вступал не только по расчету, но и по случаю, часто сразу после перехода, иногда в самую жестокую непогоду, когда меньше всего этого от него ожидали. Только под конец жизни он стал осторожнее принимать бой: чем больше за ним побед, рассуждал он, тем меньше следует полагаться на случай, так как никакая победа не принесет ему столько, сколько может отнять одно поражение. Если же его войско начинало отступать, он часто один восстанавливал порядок: бросаясь навстречу бегущим, удерживал воинов поодиночке и, схватив их за горло, поворачивал лицом к неприятелю. А паника бывала такова, что однажды схваченный им знаменосец замахнулся на него острием значка, а другой знаменосец оставил древко у него в руке. Воинов он ценил не за нрав и не за род и богатство, а только за мужество; а в обращении с ними одинаково бывал и взыскателен и снисходителен. Проступки солдат он не всегда замечал и не всегда должным образом наказывал. Беглецов и бунтовщиков преследовал и карал жестоко, а на остальное смотрел сквозь пальцы. Мятежей в его войсках за десять лет галльских войн не случилось ни разу, в гражданской войне – лишь несколько раз; но солдаты тотчас возвращались к порядку, и не столько из-за отзывчивости полководца, сколько из уважения к нему: Цезарь никогда не уступал мятежникам, а всегда решительно шел против них. Вражды у него ни к кому не было настолько прочной, чтобы он от нее не отказался с радостью при первом удобном случае. Его умеренность и милосердие, как в ходе гражданской войны, так и после победы, были удивительны».
Плутарх также хвалит Цезаря, но с оговорками: «За те неполные десять лет, в течение которых он вел войну в Галлии, он взял штурмом более восьмисот городов, покорил триста народностей, сражался с тремя миллионами людей, из которых один миллион уничтожил во время битв и столько же захватил в плен».
«Спал он большей частью на повозке или на носилках, чтобы использовать для дела и часы отдыха. Днём объезжал города, караульные отряды и крепости, причем рядом с ним сидел раб, умевший записывать за ним, а позади один воин с мечом. Он передвигался с такой быстротой, что в первый раз проделал путь от Рима до Родана (река в Швейцарии и Франции) за восемь дней. Верховая езда с детства была для него привычным делом. Он умел, отведя руки назад и сложив их за спиной, пустить коня во весь опор. А во время этого похода он упражнялся еще и в том, чтобы, сидя на коне, диктовать письма».
«Вторую войну он вел уже за галлов против германцев. Совершая налеты на укрепления вокруг холмов, где они разбили свой лагерь, он так раздразнил германцев, что те в гневе вышли из лагеря и вступили в битву. Цезарь нанес им сокрушительное поражение и, обратив в бегство, гнал их до самого Рейна, на расстоянии в четыреста стадиев, покрыв всё это пространство трупами врагов и их оружием. Число убитых, как сообщают, достигло восьмидесяти тысяч».
«Между тем бельги, наиболее могущественные из галлов, владевшие третьей частью всей Галлии, отделились от римлян и собрали многотысячное войско. Цезарь выступил против них со всей поспешностью и напал на врагов. Он опрокинул полчища врагов, оказавших лишь ничтожное сопротивление, и учинил такую резню, что болота и глубокие реки, заваленные множеством трупов, стали легко проходимыми для римлян. После этого все народы добровольно покорились вновь, но против нервиев, наиболее диких и воинственных из племен, населяющих страну бельгов (группа племен, живших между Сеной, Рейном и Северным морем), Цезарь должен был выступить в поход. Римляне бились, можно сказать, свыше своих сил и, так как нервии не обратились в бегство, уничтожили их, несмотря на отчаянное сопротивление. Из шестидесяти тысяч варваров осталось в живых только пятьсот человек, а из четырехсот их сенаторов – только трое».
Переход через Рубикон оказался губительным для страны. Как пишет Плутарх, «затем была произведена перепись граждан. Вместо трехсот двадцати тысяч человек, насчитывавшихся прежде, теперь было налицо всего сто пятьдесят тысяч. Такой урон принесли гражданские войны, столь значительную часть народа они истребили – и это ещё не принимая в расчет бедствий, постигших остальную Италию и провинции». Это потери только среди граждан Рима, которыми, как я ранее указывал, считались жители, имеющие право владеть землей, участвовать в выборах и в войнах.
После того, как Цезаря избрали в четвертый раз консулом, он «отправился с войсками в Испанию против сыновей Помпея (Гней Помпей Магн, древнеримский полководец, консул Римской республики). Они, несмотря на молодость, собрали удивительно большую армию и выказали необходимую для полководцев отвагу. «Большое сражение произошло около города Мунды (юг Испании, расположен в долине реки Мунда). Цезарь, видя, что неприятель теснит его войско, закричал, пробегая сквозь ряды солдат, что если они уже ничего не стыдятся, то пусть возьмут и выдадут его мальчишкам. Осилить неприятелей Цезарю удалось лишь с большим трудом. Противник потерял свыше тридцати тысяч человек; у Цезаря же пала тысяча самых лучших солдат. Эта война была последней, которую вел Цезарь. Отпразднованный по случаю победы триумф, как ничто другое, огорчил римлян. Негоже было Цезарю справлять триумф над несчастиями отечества. Ведь Цезарь победил не чужеземных вождей и не варварских царей, но уничтожил детей и род человека, знаменитейшего среди римлян, но попавшего в несчастье».
Однако не только гибель лучших людей отечества опечалила римлян. Светоний пишет: «Цезарь принимал почести сверх всякой меры: бессменное консульство, пожизненную диктатуру, имя императора, прозвание отца отечества». Кроме того, «допустил в свою честь постановления, превосходящие человеческий предел: золотое кресло в сенате и суде, священную колесницу и носилки при цирковых процессиях, храмы, жертвенники, изваяния рядом с богами, название месяца по его имени; и все эти почести он получал и раздавал по собственному произволу». Цезарь «в свое третье и четвёртое консульство был консулом лишь по имени, довольствуясь одновременно предложенной ему диктаторской властью; в замену себе каждый раз назначал двух консулов, но лишь на последние три месяца, так что в промежутке даже народные собрания не созывались, кроме как для выбора народных трибунов и эдилов: ибо и преторов он заменил префектами, которые вели городские дела в его отсутствие. Заведовать чеканкой монеты и государственными податями он поставил собственных рабов, а управление и начальство над оставленными в Александрии тремя легионами передал своему любимчику Руфину, сыну вольноотпущенника».
Далее Светоний рассказывает, что Цезаря смертельно возненавидели после того, как он, принимая сенаторов, явившихся к храму Венеры, не выказал им почтения – остался сидеть в кресле. «Безмерно оскорбив сенат своим открытым презрением», он совершил еще более дерзкий поступок. Человек из толпы «возложил на его статую лавровый венок, перевитый белой перевязью», как свидетельство царской власти, народные трибуны заточили наглеца в тюрьму, а Цезарь в ответ «лишил их должности». Как пишет Светоний, Юлий Цезарь «с этих пор уже не мог стряхнуть с себя позор стремления к царскому званию, – несмотря на то, что однажды ответил плебею, величавшему его царём: «Я Цезарь, а не царь!». В результате «народ не был рад положению в государстве: тайно и явно возмущаясь самовластием, он искал освободителей».
Светоний сам себе противоречит. Рассказывая, что Цезарь был неприхотлив в быту, упоминает, что тот «заложил и отстроил за большие деньги виллу близ озера Неми, но она ему не понравилась, и он разрушил её до основания, хотя был ещё беден и в долгах. В походах возил с собою штучные и мозаичные полы. В Британию вторгся будто бы в надежде найти там жемчуг. Резные камни, чеканные сосуды, статуи, картины древней работы всегда собирал с увлечением. В провинциях постоянно давал обеды на двух столах: за одним возлежали гости в воинских плащах или в греческом платье, за другим – гости в тогах вместе с самыми знатными из местных жителей». По словам Светония, Цезарь «бескорыстия не обнаружил ни на военных, ни на гражданских должностях. Проконсулом в Испании, по воспоминаниям некоторых современников, как нищий, выпрашивал у союзников деньги на уплату своих долгов, а у лузитанов (провинция Римской Испании) разорил, как на войне, несколько городов, хотя они соглашались на его требования и открывали перед ним ворота. В Галлии опустошал капища и храмы богов, полные приношений, и разорял города чаще ради добычи, чем в наказание. Оттого у него и оказалось столько золота, что он распродавал его по Италии и провинциям на вес, по три тысячи сестерциев за фунт. В первое свое консульство он похитил из капитолийского храма три тысячи фунтов золота, положив вместо него столько же позолоченной меди. Он торговал союзами и царствами: с Птолемея получил около шести тысяч талантов за себя и за Помпея. А впоследствии лишь неприкрытые грабежи и святотатства позволили ему вынести издержки гражданских войн, триумфов и зрелищ».