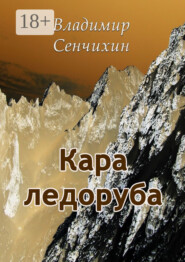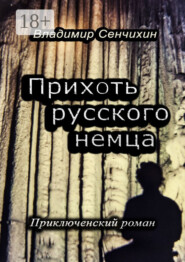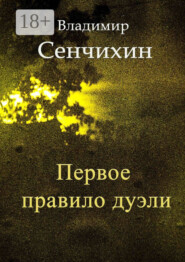По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Беседы с усопшими, или Гримасы славы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Апологет войны, отвергающий ценность каждой человеческой жизни, в конце концов угодил в психиатрическую клинику, сердобольная мать забрала его, а спустя десять лет он превратился в параличную куклу, лишенную подвижности и осмысления окружающей действительности. Ницше похоронили под стенами старинной церкви в деревне Реккен, где он родился, рядом с его матерью и сестрой. Обустроили современную могилу, окружив ее тремя скульптурами. Меня больше всего поражают два голых каменных Ницше с торчащей бородкой, стыдливо прикрывающих шляпами обнаженные чресла. Оба упираются ногами в миниатюрные постаменты и взирают на своего третьего соседа: в отличие от них, он облачен в пальто и держит шляпу в опущенной левой руке. В общем, жалкое зрелище.
Русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник Николай Миклухо-Маклай, живший в одно время с Ницше, не был философом, рассуждал о войне образно: «Если смотреть на жизнь людей, абстрагируясь, она вся состоит из непрерывной гонки добра и зла. Предположим, бегут они по садовой дорожке, стараясь опередить друг друга. И вот на их пути большая цветочная клумба, во всю ширину дорожки. Добро, зная, что цветы – прекрасное и потому ломать их кощунственно, замедлит бег и найдет способ клумбу обойти. Зло, безнравственное по сути, прекрасное не остановит, оно помчится прямиком через клумбу, круша цветы, и добро окажется позади, отстанет. Но только на какое-то время. Первенство зла в беге наперегонки иллюзорно, точнее скоротечно. Будь иначе, жизнь рано или поздно прекратилась бы. Однако она продолжается, всё совершенствуясь, уже многие-многие тысячелетия, и пределы её вряд ли можно предугадать, поскольку побеждает всегда изначально целесообразное, то есть, как свидетельствует вся история человечества, не разрушение, а созидание, любовь, олицетворяемая в прекрасном и лежащая в основе всего живого. Надолго утвердиться вместо добра зло не может потому, что у него нет естественного начала, нет той целесообразности, какой наполнены все законы движения во Вселенной».
Сказать по правде, мне больше по душе рассуждения русского с чудной фамилией, нежели умствования немца.
***
Мнения древних и новых философов о войне всплывают в моей голове, цепляясь друг за друга, подобно шестеренкам в механических часах. Вот я вижу, как три десятка всадников, подняв пыль копытами лошадей, люто убивают друг друга. Трудно разобрать, какого они роду и племени и на чьей стороне успех. Наблюдая за ними, различаю две группы. Первая – воины, вооруженные круглыми щитами и длинными копьями. Их головы защищены железными шлемами с гребнями из конских волос, с прорезями для глаз, носа и рта, а тела – металлическими панцирями, поблескивающими на солнце. Вторая – ратники, облаченные в темно—коричневые кожаные доспехи и шлемы. В правой руке секира с двойным лезвием, а в левой – короткий меч. Они на удивление сноровисто отбивают ими вражеские копья. Бросается в глаза некоторое преимущество «кожаных» – под ними увертливые кони, поджарые, умеющие быстро перемещаться боком и мгновенно отскакивать. Удивляет дрессировка коней: не управляемые поводьями, отброшенными на луки сёдел, они расторопно повинуются голосовым приказам хозяев.
Лошади «железных» воинов тяжеловесны, часто встают на дыбы. Это позволяет всадникам избегать ударов секир и мечей, но зато теряется время для маневра, а в ближнем бою дорога каждая секунда. Мое внимание привлек всадник в кожаном шлеме, усеянном крохотными зелеными камешками, похожими на смарагды. Приподнявшись на стременах, он вертит секирой над головой с такой скоростью, что на ум приходят вращающиеся лопасти вертолета. Ошеломленные его яростью, граничащей с безумием, «железные» воители шарахаются в стороны и подставляются под удары двуострых топоров. Вываливаются из сёдел, взмахивая руками, будто приветствуя свою погибель, и попадают под копыта взмыленных лошадей – своих и чужих. Не выдержав дикого натиска, уцелевшие «железные» воины дружно отступают. Их бегство губительно. «Кожаные», устремившись в погоню, на скаку прячут в ножны мечи, приторачивают к сёдлам топоры, достают луки, доселе бесполезно болтавшиеся за их спинами, и начинают разить беглецов стрелами. Только двоим благодаря прыти коней удается избежать смерти.
«Кожаные», вернувшись на побоище, спешиваются и снимают шлемы. То ли хотят выразить уважение к павшим соплеменникам, то ли охлаждают разгоряченные в пылу боя головы. По их плечам рассыпаются длинные волосы. Ба, да ведь это женщины! Они в скорбном молчании подбирают тела павших соотечественниц, забрасывают их на лошадей поперёк сёдел, запрыгивают на своих послушных скакунов и рысцой устремляются в предгорья. Я следую за ними.
Она мне нравится, я от души ей сочувствую. В ее подчинении – более трёх тысяч особей женского пола, начиная с беспомощных грудничков и заканчивая беззубыми старухами. Для вас она мираж, а для меня – живая и непосредственная. Её имя непереводимо. Древние греки, сочинявшие о ней небылицы, называли ее Пенфесилеей. Я попросту именую Пенфи, против чего она не возражает. Недоуменно пожала плечами, узнав, что получила еще одно имя – Фалестра.
Я не понимаю некоторых ваятелей. Они не удосужились выяснить, что собой представляла Пенфи. К примеру, на фасаде Лувра красуется скульптура француза Виталя Дюбре. У воительницы отсутствует левая грудь, облачена она в мужскую древнегреческую тогу с характерным для того времени шлемом на голове. Это как если бы я вылепил банкира в волчьей шкуре и с кинжалом в руке, хотя с моральной точки зрения символизм очевиден.
Дюбре, вероятно, начитался Гиппократа. Тот, повествуя о савроматах, подчеркивает, что женщины этого кочевого племени правой груди не имеют, в младенчестве матери накладывают на нее специальный медный инструмент в накаленном состоянии и прижигают, чтобы вся сила перешла к правому плечу и руке. Весьма странное и опрометчивое утверждение для человека, которого во всем мире почитают как батюшку медицины и выдающегося хирурга. Ему ли, признанному костоправу, не знать: сила правой руки после такого варварского умерщвления плоти только ослабнет.
С Пенфи я встречаюсь возле ее жилища, далеко не царского: глинобитное строение без окон с узким отверстием в крыше. Наверх, а затем и внутрь можно попасть с помощью приставной деревянной лестницы. Этот процесс при должной ловкости занимает меньше пяти секунд. С моей точки зрения, такое убежище – общая могила тех, кто в нем укроется, если нападут враги, хотя и неплохой способ избежать контактов с опостылевшими гостями, утаив лестницу.
Хочу внести ясность. Под «встречей» я подразумеваю следующее: собеседник, будто наяву, видит меня пред собой, хотя на самом деле я по сути обитаю вне «тела». Проще говоря, предстаю в виде почти материальной голограммы. Одежду подбираю тщательно, дабы она не порождала у визави ни тени сомнений относительно моей причастности к его эпохе. С коммуникацией никаких затруднений: говорю на любом языке, а при необходимости изъясняюсь жестами (о прочих практиках умолчу). В зависимости от ситуации усаживаюсь на дикий камень или стул, на ворсистый ковер или скамейку. Стоять мне трудно и неудобно, поскольку одна нога короче другой. Согласитесь, трудно рассчитывать на внимание и уважение к собственной персоне в скособоченном виде.
Вы скептически улыбнетесь, мол, каким образом мои физические недостатки связаны с виртуальной реальностью? Простой пример. Человеку отрезали ногу, а она болит, будто живая. Неужели вы полагаете, что рецептор, ответственный за целостность организма, ошибается? Ничего подобного. Фантомная боль – предупреждение, своего рода напоминание о роковом событии. Зарубка на долгую память. Вот и у меня так – вроде бы призрак, а все равно кособочусь, когда стою.
Пенфи сидит на дивной тигриной шкуре, наброшенной на грубо обтесанную известняковую глыбу, в окружении личной стражи – девушек лет двадцати, вооруженных копьями и луками. В связи с отсутствием каких-либо приемлемых сидений располагаюсь прямо на песке по-турецки, опустив руки на колени. Пенфи смотрит на меня с любопытством малолетней тигрицы, впервые узревшей добычу. Принюхивается, раздувая ноздри. В отличие от людей, живущих в эпоху смартфонов и реагирующих преимущественно на духи или острые запахи, она способна уловить тысячи оттенков. Ей невдомёк, что призрак ничем не пахнет. Пенфи напряженно размышляет, каким образом в ее владения проник незваный гость, однако, к ее чести, не собирается сносить головы тем, кто меня проворонил, мысленно намечает новые сторожевые посты.
Стражницы – воплощение свирепости и враждебности – не в силах скрыть плавящееся в глазах любопытство. Пренебрегая служебными обязанностями, воткнули в песок длинные копья, да еще и облокотились на них. Впрочем, лучницы бдительность не утратили. Как только я поднял руку, две стрелы, пронзив меня насквозь и не причинив никакого вреда, с легким шелестом врезаются в песок. У охотниц округляются глаза, в бешенстве они выпускают еще несколько стрел. Результат прежний. Пенфи сердито одергивает их, они стыдливо опускают луки. Пытаюсь её убедить, что границы охраняются как должно, а мое появление – случайность. Она с подозрением слушает, наклонив голову. Густые волосы соломенного цвета заплетены в косички, каждая из них заканчивается узелком.
Воительница жестокосердна и коварна. Она не царица, в языке её племени это понятие отсутствует, да и никакими почестями не обременена, за исключением того, что никто не смеет бесцеремонно взглянуть ей в глаза. За такую дерзость могут запросто изгнать из племени, однако ненадолго, считается, что для вразумления достаточно недели. На Пенфи туника до колен, на груди короткая зашнурованная накидка из толстой кожи. Настроение у воительницы внезапно меняется. Она задумывается, каким способом вышибить мне мозги. Миролюбиво объясняю:
– Даже не пытайся, ничего не получится.
Рассерженно фыркнув, она ловко швыряет топорик. Он сносит голову курице, бедняжка, к своему несчастью, беспечно кудахтала за моей спиной. Правительница недоуменно взирает на бьющуюся в конвульсиях птицу, из ее шеи на шафранный песок вытекает рубиновая кровь. Гневно хмурит брови. У нее новая затея. Не предать ли меня костру? Я улыбаюсь.
– Тот, кто бесплотен, огню не подвержен.
Пенфи угрюмо размышляет, не веря в мое бессмертие. Интересуется.
– Ты кто?
– Плохой вопрос. Лучше спроси, зачем я здесь.
Она негодует, не привыкла, когда ей прекословят, но, смирив гордыню, осведомляется:
– Ну и зачем?
– Хочу поговорить.
Хмурится, все еще помышляя меня умертвить. Сегодня притопал один, а завтра…
– После меня никого не будет.
Вздрагивает, пугаясь, что читаю ее мысли. Усмиряет гнев, безразлично роняет:
– Говори.
– Как насчет слухов, будто в твоем племени избавляются от правой груди?
Дугообразные брови воительницы от удивления изгибаются еще круче. На лбу выступают паутинки морщин – она далеко не молода.
– Моя задача – развеивать мифы, – объясняю свою бестактность.
Она с недоверием взирает на меня, подозревая то ли в охальной лжи, то ли в скудоумном розыгрыше. Решившись, срывает с себя накидку, а затем и тунику. Я пристыженно молчу. Опомнившись, с усмешкой изрекаю:
– Царица может позволить себе некоторые вольности.
Пенфи иронически улыбается. Повелительным жестом зовет охранницу. Не смущаясь, та демонстрирует обе груди.
– А как насчет утверждения историка Диодора Сицилийского, будто ты явилась к Александру Македонскому «в красоте и силе замечательной», в сопровождении трехсот вооруженных соплеменниц, и якобы заявила: «Я прибыла, чтобы иметь от тебя ребенка. Из всех мужчин ты совершил наиболее великие подвиги, нет выше меня женщины по силе и храбрости. От двух столь выдающихся людей родится ребенок, который превзойдет всех смертных». Ты якобы провела с ним тринадцать дней и удалилась с обильными подарками.
Собеседница брезгливо интересуется, кто такой Македонский.
Объясняю.
– Да будь он хоть Зевсом, чего ради я бы отправилась к нему на поклон? – негодует Пенфи.
Вспоминаю сочинение Арриана Флавия «Поход Александра». Древнегреческий историк и географ подвергает сомнению встречу Александра с амазонками, вооруженными секирами и легкими щитами, хотя и верит в их существование, поскольку о них упоминает Геродот. По мнению Флавия, если Александр и встречался с женщинами—наездницами, это были «варварки, умевшие ездить верхом».
Плутарх также считает визит амазонки к Александру выдумкой. Он пишет, что «Александр в подробном письме к Антипатру говорит, что царь скифов дал ему в жены свою дочь, а об амазонке даже не упоминает. Рассказывают, когда много времени спустя Онесикрит (древнегреческий историк и писатель, ученик Диогена) читал Лисимаху, тогда уже царю, четвертую книгу своего сочинения, в которой написано об амазонке, Лисимах с легкой усмешкой спросил историка: «А где же я был тогда?».
– Извини, существует мнение, что родившихся мальчиков вы умерщвляете.
У собеседницы глаза темнеют, наполняясь гневом.
– Ты хотя бы раз был отцом?
Молчу.
Она успокаивается и тихо поясняет:
– Счастье любой женщины – стать матерью, родить, но вот мальчик это будет или девочка, зависит от предначертания свыше. Так устроен мир. Как по мне, мужчин и женщин должно быть поровну, но в одних племенах – избыток женщин, в других – мужчин, и с этим ничего не поделаешь. Даже враждебно настроенным друг против друга племенам волей—неволей приходится общаться, чтобы найти женихов и невест. И это – самый лучший способ против войны, ведь во время нее погибают по большей части именно мужчины. Мы бы охотно превратились в обычное племя, женщины рожали бы детей, а мужчины охраняли свои семьи и обеспечивали их едой. Но от нас шарахаются, мы будто проклятые: наши женщины рожают только девочек. Любая соплеменница старше двенадцати лет при желании может покинуть нас. Мы этому не препятствуем.
– Получается, историк Страбон нафантазировал, написав, будто твои девушки весной поднимаются на гору, соседствующую с некими гаргарами, обольщают их в темноте, после чего родившихся девочек оставляют себе, а мальчиков возвращают отцам.
– Твой Страбон сравнил нас с похотливыми кошками, надеюсь, за эту гнусную выдумку он сполна поплатился.
Мне нечем ее утешить, есть предположение, что древнегреческий историк и географ дожил до глубокой старости, но встречаться с ним, чтобы уточнить эту деталь его биографии, мне не хочется.