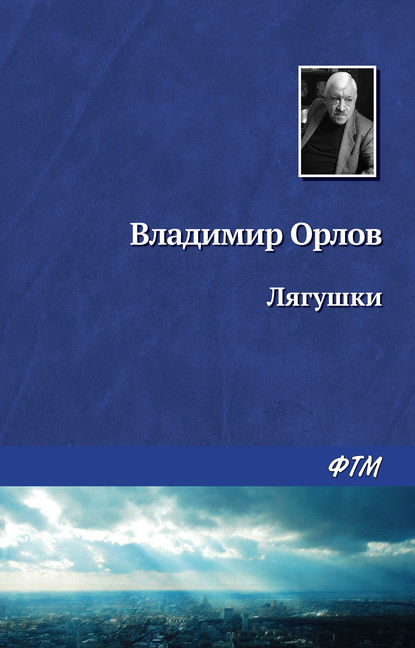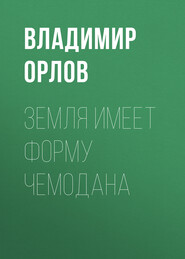По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лягушки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лёха Чибиков познакомил Ковригина с сестрой, Зинаидой Михайловной, и Ковригин подержал «костяшку» в руках. Другие фамильные реликвии не были ему открыты. Сестра Чибикова глядела на него с опаской, возможно, и Лёхе было выговорено неодобрение за допуск им в дом сомнительного изыскателя.
Ковригин, будто был приглашенный знаток и оценщик, вслух согласился с тем, что перед ними именно пороховница-натруска, хотя засомневался в смысле и предназначении исторической вещицы. Вид она имела небольшого рожка или, скажем, рогалика из слоновой кости, северороссийские же «рогалики» натруски были полыми моржовыми клыками. Сомнения Ковригина вызвали сюжеты рельефных фризов на боках чибиковской предполагаемой пороховницы. Чаще всего резчики создавали на натрусках сцены охотничьи, со зверями и зверушками – медведями, кабанами, зайцами, со всадниками, мчащимися за оленями, пешими удальцами, копьями протыкающими шкуры вепрей. Концы же рожков, наших, северорусских, обычно завершались острыми мордами морских чудовищ. Доводилось Ковригину видеть и другие сюжеты. На одном из боков эрмитажной натруски над четырьмя сердцами летал амур с известным луком, внизу же было выведено «Одного мне довольно». На «обороте», то есть на другом костяном боку, амур с сердцем удирал от гидры многоглавой, что подтверждалось надписью: «Никто у меня не отнимет!» Реликвия Чибиковых завершалась не морским чудищем, а довольно изящной фигуркой незлобного единорога. Ну, это понятно. Откуда в Нюрнберге знать о моржах из ледовитых вод? А на боках реликвии Ковригин углядел сцены из рыцарского романа – дракон окаянный лапы с когтями протягивал к упавшей, видимо, в обморок красавице явно в европейском наряде, но к дракону уже спешил рыцарь, обнаживший меч (в пороховнице у него вряд ли была нужда). Вдали виделся замок на скале, а у бокового ребра декоративными клеймами были вырезаны маскароны с завитками листьев. Под фризами имелись надписи, разобрать их как следует Ковригин не смог, явился в гости без лупы. И всё же он обнаружил в трёх местах реликвии слова и знаки, выцарапанные явно не рукой первоначального мастера, то ли чьи-то инициалы, то ли пометы, будто бы на полях читанной заинтересованным человеком рукописи. Ковригин взволновался, погладил пальцами рыцаря с мечом и произнес:
– Надо бы показать знакомым палеографам… Или графологам… Тут явно разные годы и разные люди…
Слова его вызвали резкие действия Зинаиды Михайловны. Она подскочила к Ковригину, вырвала из его рук костяной предмет, заговорила нервно:
– Никому не положено ни рассматривать, ни выносить из нашего дома! И Алексей это прекрасно знает. Но для него смешны семейные традиции и предания. Ему достаточно в жизни веселий, бродячества в диких местах и забав с аквалангами и водяными досками.
Высказав это, Зинаида Михайловна удалилась из комнаты и более в ней не появлялась.
Ковригин сидел растерянный. И Лёха Чибиков, похоже, растерялся.
– А с какими такими преданиями связана эта вещица? – спросил, наконец, Ковригин.
– С какими-то бабскими историями! – махнул рукой Чибиков. – Всерьез ко всему этому относиться не стоит. Если выспрошу что-нибудь ненароком, расскажу. Но наверняка какая-нибудь напудренная ерунда!
Но Ковригин был уже уверен, что это вовсе не ерунда и что с рыцарскими сюжетами на костяных боках связаны истории женщины, а может, и не одной женщины, и истории эти вряд ли веселые.
Однако ему-то они зачем?
Кто бы знал…
Другое дело, что он напрасно притягивает теперь к костяной якобы пороховнице из частного собрания заказы Пети Дувакина и журнала «Под руку с Клио». Тем более что уговорил себя терпеливо ожидать откликов (хотя бы одного) на публикацию статьи об особенном направлении в искусстве косторезов, вдруг и впрямь возникнет подсказка, клубок серых ниток станет разматываться и потащит его, Ковригина, к совершенно непредвиденной им ситуации… А тут на тебе! Сразу – будто бы знак и посыл интуиции к заманным именам, к царице и царевне московским, мол, верь знакам и интуиции, и не плохо бы, чтобы две женщины, для управления государством – преждевременные, а потому и обреченные, каким-либо чудом оказались в одной событийной цепи. Тут, милостивый государь Александр Андреевич Ковригин, скорее всего, возникли бы банальности и упрощения, а вы их вроде бы ох как не любите…
И в том, что экстрим-дама Лоренца Козимовна, она же Лариса Кузьевна, с бабушкой – Кузькиной матерью, курьер с толстой сумкой на ремне, называла мельком, но как бы и со значением, среди общих с Ковригиным знакомых Лёху Чибикова, не следовало искать особого смысла. А почему бы ей и вправду не быть знакомой графа Чибикова с Большой Дмитровки?
И всё же Ковригин никак не мог избавиться от убеждения, вполне возможно – неразумно-прилипшего, в том, что костяная реликвия семьи Чибиковых (а явно имелись и другие реликвии) непременно была связана с судьбами именно женщин, неважно каких и неважно каких фамилий. Очень может быть, поначалу она и впрямь служила пороховницей, порох в ней не подмокал, и его было удобно из её рожка ссыпать, стряхивать, трусить охотникам, какие потом пировали под сводами замков, разрывая руками (как в костюмных фильмах) мясо кабанов и косуль, только что снятых с раскаленных вертелов. Но добывали дичь ведь и знатные охотницы, и они обзаводились пороховницами. При мыслях об этом Ковригин жалел о своем приблизительном знании огнестрельного оружия (при каких именно «стволах» и были нужны пороховницы и когда в них отпала нужда?), давал себе слово заглянуть в серьезные монографии, но пока не случалось повода заглянуть. А позже, и это Ковригину было известно точно, ценящие себя дамы появлялись на светских развлечениях, украсив свои костюмы пороховницами на подвесках (или ещё на что там? надо выяснить) – и модно, и подтверждалась репутация прекрасной амазонки. У Софьи, предположим, в её теремной жизни, но выходит, что и тюремной, – а ведь вне Кремля имела и просторные и прекрасные дворцы на Воробьевых горах и в Измайлове, – таких развлечений не было, но на свидания-то с тем же Голицыным (безбородым, безбородым! Именно со своим просвещенным братом Федором Алексеевичем Софья вводила линейные ноты, допускала европейское платье, но что ей самой дала реформа одежды?) могла прийти и с украшениями (опять – Софья в мыслях! Опять – банальность!). Естественно, в костяных рожках была возможность вместо пороха уместить и пудру, например, или ещё что-то от тогдашних Роше, и блошиные ловушки, и мушки для любовных сигналов и игр, и, уж конечно, нюхательный табак для изведения дурных ароматов на душных балах. Или укрывать в них лирические записки или какие-либо орудия страстей и интриг. Пороховницы…
7
Показать бы надписи на боках чибиковской (а может, и голицынской) реликвии и процарапанные (резцом ли или ещё чем) инициалы (?) и пометы палеографам… Каким макаром? Если только уговорить Лёху Чибикова снять хотя бы и сотовым телефоном бока и ребро реликвии, да и незлобного единорога. Но Лёха – человек своенравный, ему ничего не стоит и заартачиться…
В ельнике вблизи Ковригина возникла компания грибников с собакой. Собака лаем сейчас же вернула Ковригина с Петровских ассамблей или с Польского акта царской оперы Михаила Ивановича Глинки к суглинкам урочища Зыкеево. У Ковригина спросили, не пошли ли осенние опята. Нет, отвечал Ковригин, опят он не видел, да и откуда им быть при таких-то теплых ночах. К тому же в ельнике осенних опят бывает мало, это место летних, рыжих опят, говорушек, а за осенними ходят за овраг на вырубки в дубняках и липах.
За овраг компания и унесла собачий лай.
Ковригин за овраг не отправился – и грибов он уже набрал, и вспомнил, как на днях провалился в овраге в неведомо откуда взявшуюся яму с поломанными досками в ней и чудом не повредил ноги. К тому же его напугал пронесшийся мимо него человек. Напугал, правда, не надолго, но вынудил остановиться и застыть в недоумении. Скорее это был и не человек, а существо, похожее на человека. Грибы прохожий (пробежавший) явно не имел в виду, не было при нём ни корзины, ни пакета, ни ведерка. Почти голый, мускулистый, звероподобный, он снабдил себя лишь набедренным одеянием из меха, возможно, волчьего. Лобастая голова его была в жестких мелких кудряшках, будто бы от горных баранов. Поначалу Ковригин подумал, потому и напугался на мгновение, что это клиент сумасшедшего дома в Троицком, одолевший бетонные стены и пустившийся в бега. Но потом – спина бегуна была уже метрах в тридцати от Ковригина – он сообразил, что ноги существа – в рыжей шерсти, а копыта у него – козлиные. Козлоногий… Пан, что ли? Фавн? Сатир? Силен? И стало быть, испуг его был и не испуг, а, как и полагается, – страх панический? Ковригин рассмеялся. Откуда здесь Паны или Силены? Но сейчас же подумал, что смеяться нечему. Ему стало казаться, что в левой руке лохматого бегуна он увидел свирель, возможно, и двойную. Не из тела ли несчастно-влюблённой нимфы Свиринги сотворённую? Фу ты! Какая бредятина лезет в голову… Но прежде, чем скрыться в ореховых зарослях, существо обернулось, пригрозило Ковригину волосатым пальцем и выругалось матом.
И это Ковригина успокоило.
Конечно, – беглец из Троицкого дурдома, псих на сексуальной почве, начитанный, знакомый с античной мифологией, возомнивший себя Паном, хорошо хоть не Приапом, а энергетика у психов такая, что возможны метаморфозы с их обликами и костюмами, посчитал бы себя Наполеоном, пронесся бы сейчас мимо Ковригина в треуголке, с барабаном и подзорной трубой…
К возвращению в реалии повседневной жизни Ковригина призывало и верещание телефона. Напоминала о себе сестра, Антонина. Было объявлено. Прибудет она в субботу, но не в обед, а утром. Детишки её вынуждены по школьной программе автобусами отправиться в Большие Вязёмы на поклон к Сашеньке Пушкину («Оно и к лучшему», – пришло в голову Ковригину). Но прибудет она не одна. Тут возникла пауза. Далее не последовало разъяснения, кто же будет спутником Антонины, – хахаль ли её какой, или серьёзный ухажер, либо – приятельница, эта, не исключалось, с прищуром глаз на него, Ковригина, непристроенного холостяка. Антонина лишь выразила братцу надежду на то, что всё на даче будет в чистоте и порядке и он не расстроит её каким-либо бардаком. Сказала, что перезвонит завтра, а он пусть подготовит список заказов, что ей надо купить ему из провизии и напитков.
Ковригин, ещё выходя в лес, наметил себе вечером пересмотреть свои бумаги, связанные с Рубенсом. И если даже обнаружатся какие-либо следы интересов или усердий Лоренцы, не вскрикивать и бумаги эти не рвать. Но, как всегда, занятия с грибами (на ночь в холодильник грибы в семье никогда не убирали, готовить их «только что из леса» было законом) и в особенности тушение картошки с зелеными сыроежками и сметаной удержало его на кухне до темноты. Он почувствовал, что устал. Ко всему прочему он объелся. Три полных тарелки горячего блюда было без задержек отправлено в чрево толкователя судьбы дипломата и разведчика Пауля Рубенса и его полнотелых красавиц. Ковригин подавил в себе икоту способом пловчихи кролем. Но зевать не перестал.
Уже под одеялом (но на террасе) вспомнил о своём соображении в ельнике. Детишки не приедут. «Оно и к лучшему…» Почему он так подумал?
А потому, что детишки не станут свидетелями или даже участниками какой-либо странности.
Какой странности?
А неизвестно какой!
Две или три странности здесь уже случились в последние дни.
Или даже четыре.
Какая же четвертая-то?
А бегун-то этот лохматый в ельнике со свирелью в руке и козлоногий? Может, он и не такой уж псих. Ну, выругался матом – и что? Раз даже негру преклонных годов было рекомендовано пролетарским поэтом выучить русский язык, то почему бы и хитрозадому эллину по необходимости жизни не освоить деликатнообязательные выражения лесов, полей и пастбищ среднерусской равнины? Тем более вблизи обитания страшного Зыкея…
Такие вот соображения посетили в зевотные минуты Ковригина.
А вот, подумал он, ухажёр Антонины или её незваная приятельница, из привычных либо новейшая, это – пожалуйста. Этим странности, по рассуждениям Ковригина, не помешали бы. Экий он был заранее кровожадный!
Но опять вместо ожидаемых Ковригиным грибов в его предсонной дремоте возникли лягушки, их были сотни, они ползли, ползли, прыгали, карабкались, но теперь и пели, явно пели и, видимо, по-аристофановски в переводе А. В. Пиотровского: «Брекекекс, коакс, коакс! В час дождливый в глуби водной блещет след проворных плясок лопающихся пузырьков. Брекекекс, коакс, коакс!»
«Чур меня! Чур меня! – пробормотал Ковригин. – Это я объелся…» И повернулся на правый бок.
8
Утренний просмотр (на голодный желудок! на голодный!) бумаг и материалов, связанных с написанием им эссе о Пауле Рубенсе, то есть якобы простодушно-обывательским рассмотрением обстоятельств жизни великого художника с упрятанными в видимых смыслах восклицаниями типа: «Надо же!», «А мне и в голову не могло такое прийти!», Ковригина отчасти успокоил.
Многое он успел сделать. Если не всё.
Застрял со второй частью эссе, это да. По лености (считал себя неисправивым и бесстыжим лентяем). И из-за досады на Дувакина. Что он будет спешить с Рубенсом, коли случился затор с пороховницами, и Петр Дмитриевич неизвестно как теперь к нему относится. В искусстве и литературе бытовало понятие, не Ковригиным придуманное, – «нерожденное дитя». У раннего Павла Кузнецова этих нерожденных дитятей хватало. Для Ковригина понятие это существовало в ином, можно было даже признать, – ремесленном смысле. «Нерождёнными детьми» были для Ковригина его неопубликованные работы. Если они не обретали жизнь в печатном виде, то как бы оставались внутри Ковригина, мешая зарождению и развитию в нем новых сочинений. Ковригин мог только предположить, как тягостно было жить литераторам или, скажем, композиторам середины и конца двадцатого столетия, чьи опусы лежали в столах, терпели, перенося родовые схватки, без надежды попасть под опеку доброжелательных акушеров.
Теперь Ковригин снова обзывал себя лентяем, безответственным нытиком, в оправдание себе вспомнившим теорию о «нерожденных дитятях» и губительных родовых схватках, нынче вызванных якобы произволом субъективиста Дувакина. Стоило ли ныть-то? Сочинение его о Рубенсе было уже сотворено. В разговоре («лекции») с Лоренцой, обозвавшей его халтурщиком, он держал его в голове целиком – ощутил это! Больше половины его шариковой ручкой было выведено на бумажных листах, другая, меньшая часть, обрывками записанная на клочках разных цветов, варилась в голове Ковригина и, пожалуй, дошла до степени готовности, блюдо вот-вот, с пылу с жару, следовало подавать на стол. Не стал подавать. Пусть он, Дувакин, напомнит и попросит. Попросил бы, тогда Ковригин за день-за два свел бы всё уже написанное – лохмотья на обрывках, мысли и образы в голове – в единый текст, выправил бы его и преподнес бы приятелю и мучителю (хотя каждый издатель и вынужден быть мучителем) Петру Дмитриевичу. Но проявил фанаберию.
Однако какой текст получил Дувакин? Если он вообще его получил…
День назад, если помните, Ковригин, как порядочный литератор, пекущийся о собственной чести, чутьчуть успокоившись, намерен был (пусть и не слишком решительно) перезвонить Дувакину и объявить, что никакого эссе о Рубенсе он ещё не написал, а текст в журнал попал самозваный и его надо подвергнуть остракизму (эко завернул бы!).
Не позвонил…
И теперь он заробел снова. Дувакин якобы намеревался обсудить с ним темы, связанные с Мариной Мнишек и Софьей Алексеевной. Но не обсудил, звонков не произвел. А вдруг он и никаких книг Ковригину не присылал, и не было никакой курьерши, и никакие соображения о Рубенсе московского обывателя Дувакина не порадовали, а всё это входило в «Брекекекс, коакс, коакс», в лопающиеся пузырьки, ставшие следами проворных плясок часа дождливого в глуби водной, и прочие влажные странности Урочища Зыкеево?
Впрочем (или кстати), пришло в голову Ковригину: а ведь ни одной виноградной улитки ни у него на участке, ни поблизости на глаза ему не попалось…
Нет, в любом случае надо было звонить Дувакину и, ни о чем не напоминая, а сообщив ему о том, что эссе о Рубенсе готово, поинтересоваться, надобно ли оно журналу и, если надобно, когда и с какой оказией отправить текст в Москву.
Услышав дачный голос Ковригина, Дувакин принялся извиняться:
– Запарка! Запарка! Помнил, помнил… Самому интересно было бы обсудить с тобой… Но производственная суета… И сегодня, извини, не позвонил бы… Вот только что ко мне заходила Сафарина… Подбирает иллюстрации к твоему Рубенсу…
Сафарина была художественным редактором журнала. Слова о ней снимали сомнения Ковригина. Текст о Рубенсе в журнале имелся, курьерша, стало быть, к нему на дачу приезжала. И картонная коробка была отправлена к нему Дувакиным.