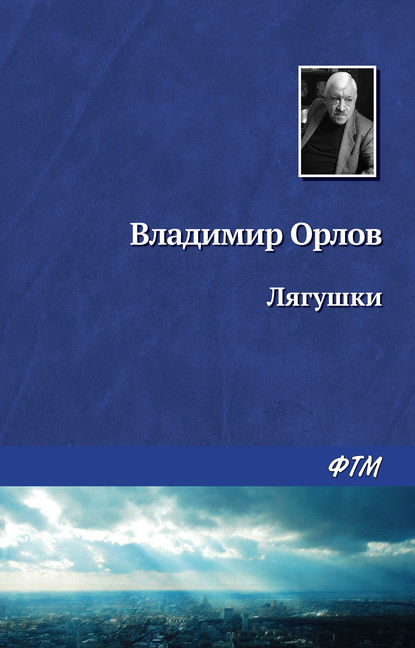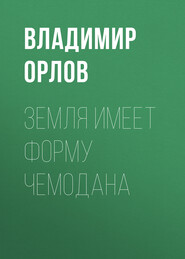По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лягушки
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сан Дреич! Я тебя обрадую! – не могла успокоиться Марина. – Посылали к тебе курьершу по имени Лариса Кузьевна Сухомятьева. Именно – не Козьминишна и не Казимировна, а – так записано – Кузьевна. Выходит, что у нашей Ларисы родитель – Кузя, Кузька, у того, сам знаешь, какая мать. А Сухомятьева – это как раз в подбор к Ковригину. Я за тебя рада. И никакая она не Шинэль, а Ку-ку. И ты – Ку-ку. И поехала она к тебе не на «лендровере», а на электричке. До утра же она оставалась у тебя в фантазиях. Твои бумаги я приняла от неё вчера.
– А как её найти? – спросил Ковригин.
– Она в агентстве в разряде «одноразовых поручений». Приедешь в Москву, зайдешь к ним, узнаешь, что надо.
– Вряд ли я буду делать это, – сказал Ковригин.
И он дал передых сотовому.
От новостей о курьерше агентства «С толстой сумкой на ремне» и её миссии следовало отвлечься хотя бы на время, и Ковригин поводом для отвлечений выбрал картонную коробку Дувакина. Ленты скотча были сорваны, и Ковригин увидел две стопки книг и репринтов. Быстро перебрал их, в иные и заглянул. Все они так или иначе были связаны с личностями Марины Мнишек, царевны Софьи и её старшего брата, царя Федора Алексеевича. В разговоре Фёдора Алексеевича Дувакин не упомянул, его, как заказчика, интересовали, выходило, лишь две исторические дамы. Одна из присланных книг ни с какого бока ни к Марине, ни к Софье не подходила, а являлась вторым томом худлитовского издания сочинений Аристофана. В неё была вложена записка Дувакина. «Шура! Вот тебе Аристофан, о коем ты просил. Извини, что не мог добыть том из довоенной „Академии“, но и тут названная тобой пьеса дана в переводе А. В. Пиотровского». Ковригин принялся вспоминать, когда это он просил Дувакина об Аристофане, но вспомнить не смог. Во втором томе Аристофана было ужато восемь пьес, одна из них, переведенная А. В. Пиотровским, именовалась – «Лягушки».
Так, так, так. Ещё и «Лягушки»!
То есть да, по приезде в Москву он собирался перечитать Аристофана, в доме тот был, но просить о срочной присылке «Лягушек» Дувакина у него не было ни времени, ни необходимости.
Теперь он вцепился глазами в тексты афинского комедиографа и просидел с ними часа два.
Всё же обижаться на свою память он не мог. И при студенческом прочтении «Лягушек», правда – легкомысленно-предэкзаменационном и скоростном, он так и не понял, при чем там лягушки. И теперь он обнаружил лягушек («лягушек-лебедей», отчего так назвал их Харон?) лишь в одном эпизоде «комической пантомимы». Дионис, отправляясь в ведомство Харона, чтобы устроить там выяснение отношений Эсхила и Еврипида, в лодке с Хароном оказывается никудышным гребцом, и хор лягушек высмеивает и подзадоривает его. Болотных вод дети, естественно, производят звуки: «Брекекекс, коакс, коакс», объявляют Диониса трусом, болтуном, лентяем. По их убеждениям, их пение любят сладостные музы, козлоногий игрец на свирели Пан, форминга Аполлона им вторит. А вот что существенно: «Так мы скачем ярко-солнечными днями меж струй и кувшинок, прорезая тишь веселой переливчатою песней, так пред Зевсовым ненастьем в час дождливый в глуби водной блещет след проворных плясок, лопающихся пузырьков». Лопающиеся пузырьки, след проворных плясок. И далее опять: «Брекекекс, коакс, коакс» (по-эллински, что ли?), и всё.
Потом переварю Аристофана, решил Ковригин, может, обнаружу в этих лопающихся пузырьках иные смыслы.
А вот в недавний мокрый день на шоссе проворных плясок не наблюдалось…
Солнце между тем уходило с участка, и Ковригин спохватился. Надо было поесть, после утреннего, то есть дневного, чая в желудок он ничего не отправил. Сотворять горячее желания не возникло, Ковригин изготовил бутерброды – с колбасой и сыром, открыл банку пива. «Опять ем в сухомятку! – отругал он себя. – Хоть бы суп сварил из концентрата!»
В сухомятку!
Лоренца Козимовна Шинэль.
Лариса Кузьевна Сухомятьева!
Что-то по поводу эпизода с этой Шинэль-Сухомятьевой необходимо было постановить, и сейчас же.
Много случилось в этом эпизоде странностей, но несколько вышло особенных. Прежде всего, что это за эссе про Рубенса, доставленное Дувакину? Позвонить сейчас же Петру Дмитриевичу и сообщить ему, что никакого эссе он не отправлял, эссе недописано, Ковригин не решился: наверняка бы, вспомнив расспросы о Лоренце Козимовне Шинэль, его бы посчитали сбрендившим.
Мимоходом и как бы невзначай Лоренца назвала среди своих знакомых Лёху Чибикова. Дувакин был прав, догадавшись о секрете, упрятанном Ковригиным в статье о костяных пороховницах, и секрет этот был связан, в частности, именно с Лёхой Чибиковым. Гранки же статьи о пороховницах-натрусках доверили курьеру из агентства «С толстой сумкой на ремне»…
Разберемся, пообещал себе Ковригин, надо было успокоиться и во всём разобраться. Впрочем, и не всему стоило искать объяснения. Ни к чему хорошему это бы не привело.
Опять потревожил Ковригина телефон.
Звонила сестра.
Бабье лето продлится, сообщила она, и на выходные с детьми она приедет на дачу.
– Хорошо, – сказал Ковригин.
Хотя ничего хорошего и в этом он теперь не углядел.
Перешел в дом (с пивом) и засел за тексты о Марине Мнишек и царевне Софье…
Нырнув в сон, успел, будто успокаивая себя, примиряя себя с чем-то, подумать: «А ведь был у неё пупок. Был. Как неприкрытая реальность реальной женщины…»
6
Утром Ковригин отправился в лес.
В ельнике, а земля здесь под россыпями желтых иголок оставалась сырой, было душно, Ковригин хотел было стянуть с себя майку, но ожившая мошкара отговорила его сделать это.
Зеленых поганок ему не встречалось. Зато повылезали повсюду мухоморы, и красные, и кремовые с белыми пупырышками, и какие-то неведомые прежде мухоморы-зонты на тонких, чуть ли не в полметра высотой ножках.
Радовали Ковригина сыроежки с зелеными шляпками. Вполне возможно, зеленые сыроежки уже упоминались в этой истории. Никакого отношения к зеленой раскраске Лоренцы Козимовны Шинэль иметь они не могли.
В отличие от сыроежек с красными или желтыми шляпками, зелёные сыроежки были – крепыши и годились в маринад, в засолку и в отвар (на пять минут) для своевременной закуски. Но особо ценились они в семье Ковригиных по фамильной традиции для приготовления тушеной картошки. Традиция эта была освоена матерью Ковригина ещё в годы её яхромского детства. Крепыши-сыроежки, а не боровики, предположим, те сберегали для засушки и жарки, именно сыроежки (с добавкой кружочками нарезанного репчатого лука, и если имелась сметана, то и сметаны) заменяли мясо говядины и даже чуть жирной свинины, и созидалась тушёнка ни чуть не менее вкусная, нежели тушёнка мясная. В годы войны, когда вся страна сидела на картошке, по рассказам матери, кушанье это признавалось наипервейшим деликатесом. Ковригин во взрослую пору (режим работ позволял) любил торчать на кухне, научился варить и супы, начиная с борщей и харчо и кончая восемью видами шурпы разных узбекских бекств и эмиратов, при этом импровизировал у плиты, умел тушить и грибную картошку, попробовал однажды добавить в неё дольки свежего чеснока, но только испортил её вкус. А вот лавровый лист и горошек черного перца шли в дело непременно.
Теперь он аккуратно срезал зеленые сыроежки, в уверенности, что нынче у него будет на обед горячее. По опыту знал, что на хорошую кастрюлю понадобится не меньше шестидесяти зелёных шляпок, и когда понял, что наберет грибов и на жарево, и на отвар (попадались и подгрузди – во мху вылезли чернушки, и лисички, и молоденькие подберезовики, и даже белые на ореховой опушке ельника у Леонихи, и кофейнофиолетовые поддуплянки), успокоился и снова стал думать о Марине Мнишек и Софье Алексеевне Романовой.
Перебрав по утру дары Дувакина (а вернее, и не дары, а блёсны, крючки с наживками или ещё что там для заглатывания одуревшей и вовсе не от голода, а от любопытства и жадности рыбины), Ковригин понял, что перед ним вовсе не репринты, а хорошие компьютерные «списки» текстов, скачанные с источников дорогим ноутбуком. Со многими этими источниками Ковригин был знаком. В частности, с так называемым «Дневником Марины Мнишек». О других слышал и даже читал выборки из них. Это были переведенные с польского в начале двадцатого века – основательное сочинение ксендза Павла Пирлинга о Дмитрии Самозванце и книга А. Гершберга «Марина Мнишек». Некоторые тексты Ковригину не были известны, их ещё предстояло освоить и переварить. «Если возникнет желание…» – на всякий случай позволил себе посвоевольничать в мыслях Ковригин. Конечно, была вложена в коробку и не раз читанная книга С. Ф. Платонова «Очерки по истории Смуты в Московском государстве», на взгляд Ковригина, лучшего толкователя столь печального периода русской истории. Из новых публикаций Ковригину предлагалась вышедшая в молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей» монография Вячеслава Козлякова «Марина Мнишек». На глянцевой, иначе не скажешь, обложке рядом с глянцевым же портретом красавицы (вся в жемчугах, золоте и дорогих каменьях) была изображена башня Коломенского кремля.
С этой башни и возбудился некогда интерес Ковригина к Марине Мнишек.
После третьего курса на практику Ковригина направили в Коломну в городскую газету. Тогда по Москвереке ещё ходили, пусть и плохонькие, теплоходы, и Ковригин доставил себе удовольствие прибыть к окскому берегу речным путем. Из окна гостиницы (в два этажа) ему указали на кремлевские стены, колокольню прибазарной церкви и сообщили с особым значением: «А это вот Маринкина башня». Конечно, по всеобщим понятиям, как и по школьным понятиям Ковригина, Мнишек была стерва, самозванка, колдунья и фурия, помимо прочего и страшила (из-за картинок, увиденных Ковригиным в детстве, он посчитал, что хуже этой уродины с бородавкой на носу и быть не может, и только в студенчестве сообразил, что бородавку эту он пересадил на нос Марины с лица Григория Отрепьева). Маринкину башню в Коломне предъявляли чуть ли не с гордостью: здесь злодейка по делам своим маялась в заточении, здесь её по делам же уморили голодом и стужей. То, что Мнишек погибла в ином месте, Ковригин к тому времени уже знал, но в споры с городскими патриотами не вступал. Тем более что в их оценках Марины и её судьбы случались противоречия. Она была своя, коломенская злодейка. Впрочем, злодейка-то злодейкой, но ведь и страдала, а потому вызывала и сочувствие. К страдальцам же русские люди относятся и с чувством вины. Позже, побывав в Угличе и в Тобольске, Ковригин понял, что и там и царевич Дмитрий, и Николай Александрович с семейством – свои, и в принявших их городах люди, не все, естественно, ощущают себя виноватыми перед временными, по неволе, у них поселенцами. Особенно умилительным было отношение в Угличе к сосланному мальчонке, он будто бы гулял ещё где-то невдалеке от Теремного дворца на берегу Волги и вот-вот мог быть зарезан по приказу несомненного (для угличан) душегуба Годунова.
А в Коломне один из краеведов и посоветовал Ковригину познакомиться с книгой ксендза Павла Пирлинга (наверняка её, изданную в 1908-ом году, сказал он, можно получить в Москве, в Исторической библиотеке). Тогда он и зачитал практиканту выписанные из книги слова: «По страшному пути пришлось пройти молодой, одинокой женщине. Условия, среди которых она жила это время, были самыми ужасными. Неужели, испытав всё это, Марина не может рассчитывать на снисхождение ввиду обстоятельств, смягчающих её вину? Нет, справедливость требует, чтобы судьи считались с этими данными, по крайней мере до тех пор, пока не будет произведено дополнительное следствие»…
На четвертом курсе, по нынешним его представлениям, Ковригин дурью маялся: пытался писать сценарии и пьесы, были причины, водил шуры-муры со студенточками из театральных вузов. Одна из них теперь Звезда, и именно для неё (или ради неё) Ковригин начал выводить на бумаге диалоги с ремарками. То есть поначалу он намеревался сочинить драму о Дмитрии Самозванце, но, перечитав все пьесы, написанные о нём (и Островского, в частности), понял, что ничего нового не создаст. Да и представления у него о многом, и о Смуте тоже, были самые приблизительные. Стал ходить на интеллектуальные «игры» студенческого общества историков (из пединститутов), часы просиживал в библиотеках и архивах (Университет приучил). Будущая Звезда, прочитав пьесу Ковригина о Марине Мнишек, зафыркала – кому нужна теперь гордая полячка, а влюбленного в неё автора объявила бездарью. Крах, конфуз и печальный конец драматургических опусов. Марина же Мнишек, в пьесе будто бы осветленная, тогда, естественно, опять совместилась в сознании Ковригина с силами, удач не приносящими… Кстати, совсем недавно Звезда «в своих возрастах» сыграла Марину Мнишек в прошумевшей постановке «Бориса Годунова» и, как писали, замечательно и страстно сыграла (что-что, а страсти она всегда играла умело). Но сыграла Марину, придуманную Александром Сергеевичем (гениально снабженная Мусоргским звуком меццо-сопрано, Марина и вовсе превратилась у Фонтана в Самборе в способную растерзать чужую страну светскую тигрицу). На самом же деле в Самборе (Ковригина заносило и в Самбор) Марина была пятнадцатилетняя девчонка, выросшая в европейских комфортах романтическая панночка, не ведавшая о том, что в интригах отца она разменный грош и, уж конечно, не представлявшая, что такое Московия с её снегами и грязями. Ныне Звезде тридцать пять, и сцене у Фонтана она стала соответствовать…
Самому же Ковригину захотелось сейчас отыскать свое простодушное и неуклюжее творение с диалогами и материалы, собранные им о Марине Мнишек в ту пору. Если они, конечно, сохранились в его московских бумагах.
Что же касается царевны Софьи, то ею Ковригин всерьёз не интересовался.
Материалов о Софье в коробке Дувакина было поменьше «Маринкиных». Да иные из них свидетельствовали и не о ней, а о её старшем брате Федоре Алексеевиче, самодержце всея Великие и Малые и Белые России, володевшим страной шесть лет и умершим двадцатиоднолетним, скорее всего от отравы. Прежде о нем было в ходу мнение как о больном и хилом царе. Теперь же его всё чаще называли человеком «тонкого ума» и реформатором, царствование же его – «потаённым». «Потаённым», надо считать, с помощью усердий учёных людей, возвеличивавших лишь деяния Петра Великого.
Было время: и из-за упрощений, и из-за угоды социальному заказу (или социальной моде?) незыблемым бронзовело представление, из какого исходило: всё у нас началось с Петра. Деяния Петра и впрямь великие, но услужливо-охочие популяризаторы часто «для наглядности» выделяли в них эффекты чуть ли не кинематографические. Или так. И в кино выходило, что Петр Алексеевич вздымал Россию на дыбы с помощью эффектов (опять же школьные впечатления отрока Ковригина). Вот старая Россия. Сплошные бороды. Над бородами – полусонные рожи дураков и лентяев. Под бородами – изношенные зипуны или исподние рубахи. Руки, опять же в волосах, чешут грудь – наверняка искусанную насекомыми. Вот Пётр стрижет бороды. Вот вся Россия побрита. Вот на облегченные головы натянуты парики, и глаза под ними поумнели, стали живыми, в них – желание нечто этакое полезное предпринять. Или сплясать на ассамблеях. Башки стрельцам поотрублены, и в сражения идут бравые преображенцы и семеновцы. Впрочем, повсюду остались злыдни и ретрограды, эти ждут не дождутся поворота к старому. И повсюду – классовая борьба. При ней и бандит Разин превращался в героя-освободителя. Ну, и так далее.
Несколько лет назад Ковригина попросили написать о музыке допетровских времен. Было ли что-либо в ту пору, кроме гуслей, дудок, сопелок, домр, рожков, хорового пения? Ковригин и так знал, что «это кроме» было. Однако подробности музыкальных увлечений просвещенных московских особ семнадцатого столетия Ковригина удивили. К тому времени музей Глинки из палат Троекурова в Охотном ряду, запертых чиновничьим забором с милицейскими будками (теперь это забор Думы), был вытеснен на тверские-ямские, там к архивным изысканиям Ковригин был допущен. Хороши по информации оказались первые тома «Истории русской музыки» со статьями Ю. В. Келдыша. Интересные попадались Ковригину и публикации. В частности, исследование В. Протопопова «Нотная библиотека царя Федора Алексеевича». «Список» с неё, кстати, был прислан теперь и Дувакиным. Брат Петра был ещё и композитором. А в московских каменных палатах имелись доставленные от известных мастеров инструменты, собраниями которых не обладали и богатые меломаны в Лондоне или в Берлине. Не только имелись, но, понятно, и звучали. И не носили хозяева палат, важные деятели государства, бород, а были в курсе моднейших европейских новинок. В их числе и князь Василий Васильевич Голицын, первейший друг и советник царевны Софьи, оценить чью натуру и был призван теперь Ковригин.
Почитаем, почитаем, обещал себе Ковригин, и про Софью, и про Федора Алексеевича. И про Алексея Михайловича, о котором в школе Ковригину было втемяшено, что при нём во мраке российской жизни главным образом происходили бунты, то Соляной, то Медный, то всенародно-освободительный Стеньки Разина. Бунташный, мракобесный век… На самом же деле Россия тем временем деятельно и разумно подбиралась, пусть и не спеша, к решительному закреплению перемен в ней Петром Великим. Слова «почитаем» относились опять же к посылке Дувакина. Больше всего в ней было работ современного историка Андрея Богданова, среди них и книга – «В тени великого Петра». Пролистав их, Ковригин понял, что о Софье ему придется добывать знания в Москве. Странным образом Ковригин чувствовал себя виноватым перед Софьей и её временем. Года четыре назад при разборке жилого здания в Староваганьковском переулке возле Румянцевского дома были открыты палаты семнадцатого века, по убеждению историков, принадлежавшие Шакловитому, одному из близких Софье людей (в трагической ситуации она его предала, или хотя бы – «сдала»). Сохранить палаты было нелегко, началась тяжба, Ковригин загорелся, намерен был лезть со знаменем на баррикады (полотно Делакруа!), но, как это случалось с ним не раз, остыл, увлекся другим занятием («и без меня защитников хватит!»), а потом услышал, что палаты Шакловитого снесли. Софья же наверняка бывала в них. Не исключено, что пробиралась туда из Кремля при свете факела подземным ходом. Как пробиралась на свидания и в палаты Василия Голицына в Охотном ряду (теперь на их месте – опять же Дума, вот ведь игры времен!)…
Сопротивление просьбам и уловкам Дувакина ворчало в Ковригине. Но он понимал, что ходит уже кругами вблизи дувакинской блесны. Произошедшее давно становилось необходимым Ковригину сейчас. Прошлого нет и нет будущего, полагал Ковригин. Они слиты в «сейчас». Есть только «сейчас». И есть волшебное свойство человека оживлять душой исчезнувших давно людей и вступать в их жизнь. Нужда в этом всегда жила в Ковригине. Так было и в прежних случаях (с Колумбом, например, с Монтесумой и Кортесом в одном американском сюжете), а теперь – и с Рубенсом, Ковригину требовалось воображением чуть ли не поселяться в натурах своих персонажей, в их телах и даже в их костюмах. Это волновало его и доставляло ему, пожалуй, будто бы физическое удовольствие («Типа того», – сказала бы Лоренца). Ради понимания Марины Мнишек и царевны Софьи следовало «оживить» и их. Хотя, понятно, что и мыслями очутиться в их телах вышло бы для Ковригина делом затруднительным. Но побыть вблизи них, отгадывая их чувства, мотивы их действий, физиологические особенности их натур, для Ковригина становилось теперь занятием-состоянием обязательным, это занятие уже увлекало его, вот он – да, он! – стараясь быть незамеченным и не услышанным, озираясь, кирпичным, обложенным белым камнем, ходом, передвигался сначала под Неглинкой, потом под мшистыми берегами её, а метрах в пятидесяти впереди при колеблющемся свете факела шла властная женщина, спешила из кремлевских покоев к кому-то из близких мужчин своих – Голицыну или Шакловитому, страсть и государственные дела гнали её…
«Всё! Остынь! Угомонись! – приказал себе Ковригин. – Ты уже начинаешь пропускать чернушки, они сливаются для тебя с корнями елей…»
Но он не мог отогнать мысль о том, что в названных Дувакиным именах и присланных книгах (а может, иные из них в коробку вложила Лоренца? Нет! Нет! Чур её!) отправлен ему знак. Отчего вдруг объединялись в одном заказе дочь сандомирского воеводы, ложно обозванная царицей Смуты, и неудачливая царевна Предпетровья, вынужденная, по московской легенде, наблюдать по ночам сквозь слюдяные оконца монастыря привидения князя Хованского и его сына с отрубленными головами в руках, по её велению погубленных? И драмы той и другой женщины расположились в одном веке… Что-то было в пожелании Дувакина, было! Предчувствие теребило теперь Ковригина, азарт исследователя разжигая в нём.
Секретец статьи о костяных пороховницах, учуянный Дувакиным, состоял вот в чем. С Лёхой Чибиковым Ковригин познакомился на Чукотке. После Горного института Чибиков геологом искал золото и прочие клады недр под Билибиным и Кадыкчаном. В его поисковую партию, естественно, подряжались бичи и уголовники, с некоторыми из них он сталкивался и теперь. В длинном корявом парне, в ватнике или тулупе, не наблюдалось ничего аристократического, манерами и способами выражений и он был похож на бича, тем не менее окликали его Графом. Чибиков и был графом. То есть сам Лёха графом себя не считал и по возвращении в Москву (нынче он сытно обитал в Газпроме) ни в какие дворянские собрания не записывался и не являлся. Но происходил он истинно из рода Чибиковых, предок его, знаменитый граф Чибиков, вёл войну с Пугачёвым, доверив доставку злодея в Москву молодому офицеру Суворову (что засвидетельствовано на известной картине Татьяны Назаренко, знакомой Ковригина). А Чибиковы были в родстве с Голицыными. Опять же Ковригин имел беседы с великим художником Илларионом Голицыным, нелепо погибшим, в частности и о фамильной реликвии петровских времен, парном портрете супругов Голицыных работы Матвеева. В семье Голицыных бытовали и не легенды вовсе, а достоверные предания и сведения и о воеводе Ивана Грозного, поставившем крепость Свияжск, без которой могло бы и не состояться взятие Казани, и об образованнейшем князе Василии Васильевиче Голицыне (тому бы ещё и силу характера), а вместе с ним, понятно, и о царевне Софье…
Так вот. Выяснилось и стало известно Ковригину, что мать Лёхи Чибикова сберегала некий костяной предмет, которым интересовалась Оружейная палата. Эксперты были убеждены, что это работа нюрнбергских мастеров, современников Дюрера. Предмет не был ни продан, ни подарен. Остался в семье. Сейчас владела им старшая сестра Лехи Чибикова – Зинаида Михайловна Половцева. По убеждениям тех же экспертов, изделие германских косторезов попало в Россию давно, а не было завезено, скажем, в восемнадцатом веке и уж тем более в веке девятнадцатом. Стало быть, имело долгую московскую или даже московитскую историю и служило, пока неразгадано чем, но наверняка людям с интереснейшими судьбами. Завладеть условно названной костяной пороховницей Ковригин не собирался, такого и в мыслях его не могло возникнуть. Чужие вещи с чужой энергетикой были для него именно опасно-чужие. Принимать на себя обстоятельства жизни незнакомых ему людей с их радостями или страданиями Ковригин не желал. Упаси Боже! А потому не годился в коллекционеры.