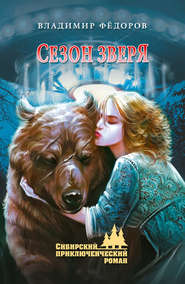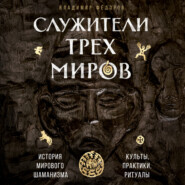По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Служители трёх миров
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Индейцы все-таки успели, хотя наутро оживший экспериментатор устроил самому себе мысленный выговор за безрассудную смелость. Интересно, что когда он рассказал о своих видениях слепому (подчеркнем, слепому! – В.Ф.) индейскому шаману и передал ему слова «рептилий», тот только усмехнулся в ответ: они всегда так говорят новичкам, а на самом деле являются хозяевами всего лишь «дальней тьмы». «Я был потрясен. Оказывается, все то, что я пережил, было уже известно этому босому, слепому шаману – известно по его собственным путешествиям в тот же самый мир, в который отважился отправиться и я».
Хотелось бы отметить характерный момент: высокообразованный человек из развитого государства, не раз и надолго забиравшийся в дикие джунгли, не побоявшийся испытать на себе упомянутое «зелье», был настолько поражен и заинтригован открывшимся перед ним миром древних верований, что посвятил изучению шаманизма всю свою жизнь, сам стал шаманом и начал обучать этому искусству других. Подобные примеры на западе, в отличие от «советских исследователей», большую часть ушедшего века считавших шаманов ненормальными или шарлатанами, – не редкость. Достаточно вспомнить широко известного Карлоса Кастанеду с его несколькими книгами об ученичестве у мексиканского шамана дона Хуано. Можно сказать, что Кастанеда не просто глубоко проник в сущность и философию оккультных ритуалов индейцев, но и создал своими работами совершенно новый литературно-документальный жанр, показав в нем изнутри мистическое постижение мира.
В подобном ключе магических очерков написаны и книги американки Линн Эндрюс, которую коллекционирование этнографических реликвий привело в резервацию индейцев кри близь Манитобы, в хижину шаманки-хейока Агнес Быстрой Лосихи и оставило там, образно выражаясь, до конца жизни. Первое посвящение Линн «в волчицу» тоже было своеобразным, оно произошло, в соответствии с канонами хейока, в крошечной шаманской бане, у раскаленных в костре камней.
«Пахучий пар с шипением поднимался кольцами к потолку. В бане стало по-настоящему жарко, и меня придавила тьма – воздух был густым, темным и тяжелым. Агнес воззвала к радугам, орлам и затянула мелодичную песню-просьбу. Внезапно я разразилась плачем. Я думала, что жар, достигнув определенного уровня, перестанет расти. Но не тут-то было. Воздух разогревался все больше, и мне показалось, что дальше выдержать невозможно. Мне чудилось, что раскаленные камни – это светящиеся глаза, глядящие на нас из глубин земли…я ощутила себя совершенно беспомощной, словно была связана веревками по рукам и ногам. Я не могла пошевелиться. Мне захотелось закричать и убежать от этого невыносимого жара и тесноты. Но я сдержалась, и тогда, словно по волшебству, во мне открылось дыхание тьмы. Жар камней пульсировал в такт с сердцем. Тело, казалось, начало плавиться, а руки сжались в кулаки. Я старалась разжать пальцы, но они скрючились, словно когти, и отказывались подчиняться моей воле. Моя спина выгнулась, плечи ссутулились, голова моталось из стороны в строну, а когда я заморгала, то почувствовала, что лицо застыло, словно маска. Губы вытянулись уголками вверх, обнажая зубы. Я оскалилась – все барьеры рухнули. У себя на животе я ощутила короткую мягкую шерсть. Я превратилась в первобытную волчицу. Откинув голову назад, я беззвучно завыла…»
Такой момент получения таинственной силы, одержимости через магический жар «черной» бани, характерный для американских индейцев, заставляет вспомнить ночные трансовые танцы гаитян, африканцев и болгар на раскаленных угольях.
А вот, можно сказать, противоположный по температурному вектору ритуал обращения нашего западного современника в шаманы. Индейцы Эквадора несколько суток водили его без пищи по сырым и неприветливым горам и ущельям, а потом, заведя в «Дом предков» (пещеру под ледяным водопадом) и заставив долго шагать по ней с особым криком-призывом взад-вперед, напоили каким-то отваром и оставили одного. На голой, холодной, мокрой вершине. Дав в качестве единственной защиты легкий бальсовый посох.
Ты должен страдать, объяснили краснокожие проводники странному белому, иначе предки тебя не пожалеют и древний дух не придет к тебе. Тем более что ты не наш. Как ни дискомфортно он себя чувствовал, зелье все же заставило смежить глаза и провалиться беспокойный сон, больше похожий на борьбу с множеством каких-то свирепых существ.
«Я проснулся от вспышки молнии и раската грома. Земля подо мной дрожала. Я вскочил, охваченный паникой, но ураганный ветер тут же сбил меня с ног. Шатаясь, я с трудом поднялся вновь. Колючий дождь хлестал по моему телу, и ветер рвал в клочья мою одежду. Кругом сверкали молнии и гремел гром. Я ухватился за какое-то деревце, чтобы не упасть… Внезапно футах в двухстах, среди стволов деревьев, я различил какое-то светящееся тело, которое медленно и плавно приближалось ко мне. Я стоял и в испуге смотрел, как оно становилась все больше и больше. Вдруг оно стало извиваться, и я увидел, что прямо на меня плывет гигантское, похожее на рептилию существо, ярко переливающееся красными, пурпурными и зелеными красками. Я бросился бежать, но потом вспомнил про бальсовый посох. Змеевидное чудовище было уже всего в каких-нибудь двадцати футах, вот оно уже нависло надо мной, то свертываясь, то распрямляясь…»
В конце концов посох нашелся, чудовище отступило, и посвящение состоялось. Наутро индейцы приказали неофиту держать все увиденное в тайне «до того времени, пока ты сам почувствуешь, что сможешь это рассказать другим людям». Он, конечно, был потрясен, обессилен и опустошен, как и все, проходящие подобные испытания, но впереди их, избранников духов, в качестве награды за смелость (или вечной муки, вечного креста?) ждало другое, не ведомое прочим смертным бытие, своя собственная фантастическая реальность.
«Он уже выпил зелья и теперь негромко пел. Мало-помалу в темноте стали появляться неясные линии и фигуры, и вокруг него зазвучала пронзительная музыка «ценцаков» – духов-помощников. Их питала сила, заключенная в зелье…Он звал этих духов, и они пришли к нему. Сперва «панги» – анаконда – обвилась вокруг его головы и превратилась в золотую корону. Потом «вампанг» – гигантская бабочка – залетала над его плечом и запела своими крыльями. В воздухе над ним плясали змеи, птицы, пауки и летучие мыши. Тысячи глаз появились на его руках – это появились демоны-помощники рыкать в ночи в поисках врагов. Его уши наполнились шумом стремительно бегущей воды, и, слушая этот рев, он понял, что обладает силой «цуги» – первого шамана. Теперь он умел видеть…»
Теперь он умел еще и покидать свое тело, чтобы отправляться в неведомые небесные или подземные путешествия. Причем, делать это в самом прямом смысле слова. Свидетелем последнему однажды, тоже уже в наше время, стали французский ученый и путешественник П.Гэсо и двое его коллег. В тот вечер они готовились отойти ко сну в хижине африканского шамана Вуане из племени тома. Сам хозяин заснул гораздо раньше гостей и теперь спокойно посапывал на своем нехитром ложе. Неожиданно в дверь тихонько поскреблись. Французы насторожились. Царапающие звуки повторились вновь. А затем дверь вдруг распахнулась, и оказалось, что… «На пороге стоит Вуане в коротком бубу, в коротких штанах и с непокрытой головой. Но ведь он – у моих ног, на своей циновке. Он лежит на боку, повернувшись ко мне спиной. Я вижу его бритый затылок. Между нами на земле стоит лампа, горящая тускло, как ночник. Я не смею пошевелиться и, затаив дыхание, смотрю на Вуане. Он какое-то время колеблется, наклоняется, проходит под гамаками Тони и Вериля и медленно укладывается в самого себя. Вся сцена разыгрывается за несколько секунд».
Нельзя найти никакого разумного объяснения этой коллективной галлюцинации! – восклицает потрясенный Гэсо. Можно. Для этого надо просто считать увиденное не галлюцинацией, а реальностью, демонстрацией человеком своих паранормальных возможностей, обретенного им особым образом особого дара.
Заканчивая рассказ об инициационных потрясениях и становлениях в разных уголках планеты, уделим немного внимания и имеющимся параллелям во взглядах древних кудесников, жрецов, пророков и философов на строение мира. Мы сделаем это, чтобы показать – и здесь они часто были похожи друг на друга в своих воззрениях, проницательны и взаимно понимаемы.
Так, китайцы начала нашей эры представляли небо в виде сферы и делили его на 12 «этажей», на которых помещались, помимо небожителей, главные планеты и луна. Очень разработанная конструкция вселенной осталась в рукописях жрецов ацтеков – она разделялась на десять нижних и тринадцать верхних миров. В каждом из них также могли помещаться и боги (или демоны), и луна, солнце, некоторые планеты и стихии. Например, первое небо было отдано Богу огня и луне, одиннадцатое – Красному Богу жертвоприношений, а высшее тринадцатое – Богине звезд. Семь и более небес существовало и у соседей ацтеков майя, а также среди многих племен северо– и южноамериканских индейцев. Семь миров создали для себя первые последователи иудаизма и трижды по семь – ислама. Как мы помним, девять «кругов ада» прошел автор знаменитой «Божественной комедии» средневековый европеец Данте Алигери, но у него был еще и рай из семи этажей.
Трехчастную структуру из верхнего, среднего и нижнего миров, подобных якутским, имеют никогда не видавшие снегов и морозов обитатели далеких вьетнамских тропиков мыонги и еще более удаленные даяки с острова Калимантан, а также филиппинские ифуаго. Аналогичным образом выглядит мироздание и для африканцев с эскимосами. А впервые же такое понятие встречается еще в Ведах.
Живущие на Дальнем Востоке нанайцы считали, что вселенная состоит из девяти сфер – трех верхних, трех средних и трех нижних. И были убеждены, что над ними простираются друг над другом железное, серебряное и золотое небеса. Что касается нанайского подземного мира, то точное его расположение и дорогу туда знали только посвященные шаманы.
Аналогичная картина наблюдается и по отношению к мировому дереву: еще древние египтяне представляли его в виде живой оси земли, на золотых ветвях которой, где-то высоко-высоко живет небесная богиня Нут и распускаются вместо листьев и цветов драгоценные камни.
Как сообщает в своей книге «Мифы о вселенной» В.В.Евсюков, древние китайцы помещали космическое дерево далеко на востоке, в Долине света. «Именно там из бурлящего моря вздымалась вверх колоссальная шелковница неохватной толщины. На самой ее макушке сидел чудесный петух, своим криком возвещавший наступление дня, отчего вся нечисть, бродившая ночью по земле, в спешке убиралась восвояси. На ветвях шелковницы обитали десять солнц, имевших облик золотых трехпалых воронов».
Упомянуты нами майя считали мировое дерево, покрытое шипами, своеобразным столпом вселенной, но ему «помогали» держать небеса еще четыре дерева по краям света. Вокруг главного дерева собирались боги, решая судьбы людей и земли. Как символический пень его выглядел алтарь, на котором приносились самые главные жертвы – человеческие.
В тени вселенского ясеня, подпирающего небо, пас своих коней высший бог скандинавов Один. Интересно, что три корня этого дерева уходили каждый в один из трех миров и у каждого бил волшебный источник. У подножия ясеня жил мифический змей, на вершине – мудрый орел, а рядом со стволом стоял храм богинь судьбы норн. Другой мифический ясень рос на родине древних греков, проникая корнями в аид. В животворной тени его ветвей был вскормлен козой Зевс и родился Аполлон. К ним можно добавить еще великое множество героев, богов и волшебных существ самых разных народов и мифологий. А в заключение, наверное, нельзя не воскресить в памяти знаменитые пушкинские строки, навеянные преданиями древних славян, тогда еще язычников, тоже имевших свое волшебное дерево до небес на далеком и неведомом краю земли, там, где суша встречается с морем. И этим примером еще раз подчеркнуть всемирную универсальность взглядов космогонии древних, претендующую таким образом на особую мистическую истину.
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей…
И я там был…
Призраки из пещер,
или Все дороги ведут в Сибирь
Автору этих строк в какой-то мере повезло – он живет в той самой Северной Азии, откуда через русский язык тунгусское слово «шаман» пришло во всю мировую литературу и науку, где были сделаны самые первые шаги по исследованию и описанию шаманизма и где, по мнению большинства авторитетов в этой области, шаманизм сложился и сохранялся до недавних времен как наиболее целостная его форма. Подобное мнение уже представленный нами М.Элиадэ подтверждает следующим образом: «…достоинством сибирского и среднеазиатского шаманизма является то, что он предстает как структура, в которой элементы, существующие независимо друг от друга в остальных частях мира (связи с духами, экстатические способности, позволяющие осуществить магический полет, вознесение на небо, нисхождение в ад, укрощение огня и т.п.), объединены в своеобразную цельную идеологию…» И, можно добавить, в хорошо разработанную и разветвленную систему шаманских технологий и техник, причем в их наиболее естественном, природном виде.
Второй общепринятый в описаниях шаманских радений термин – «камлание» – также родом из лексикона тюркоязычных народов Центральной и Северной Азии, в частности, «камами» и сегодня называют своих шаманов алтайцы. Вообще же это слово пришло из глубокой древности – кудесники-камы занимались чародейством в станах степных кочевников половцев еще во времена князя Игоря. По крайней мере, тогда славяне уже знали об их существовании.
Такое особое место названного региона на мировой религиозной карте по существу превратило Центральную и Северную Азию, Сибирь в своеобразную шаманскую Мекку планеты, привлекая сюда наиболее серьезных и основательных исследователей этой древней веры и позволяя им увидеть здесь шаманизм в его самых развитых и интересных проявлениях. Поэтому и у нас есть все основания вернуться после мирового экскурса в родные пенаты и одновременно расширить в этой главе рамки повествования, сделав небольшой обзор «особенностей национального шаманизма» по обозначенному направлению. Начнем его с Алтая.
На каменных плитах погребений в долине реки Урсул, которые археологи относят к эпохе бронзы, четко видны силуэты странных человеческих фигур, чьи головы (или маски?) изображены в виде сплошных дисков с отходящими от них лучами, а одеяния украшены птичьими перьями. Некоторые же из фигур вообще парят в воздухе на руках-крыльях, вытянув вместо ног лапы с когтями. Эти странности становятся вполне естественными, если вспомнить, что еще в недавние времена алтайцы непременно прикрепляли к плечам шаманских костюмов перья беркута – главной птицы хозяина неба Ульгена, а также покровителя и спутника возносящихся в верхний мир шаманов. А перья филина должны были присутствовать в наряде потому, что камы обычно устраивали свои мистерии и, соответственно, летали над землей в темное время суток, подобно этой ночной неслышной и всевидящей птице.
По одной из легенд, записанных Л.Я.Штернбергом, самого первого шамана рода человеческого звали кам Атыс. Кроме земной жены, женщины очень ревнивой, он имел и тайную жену-духа на небе. Однажды кам случайно проговорился земной жене о ее далекой «родственнице», и ревнивица потребовала, чтобы он немедленно призвал соперницу. Как можно догадаться, для выяснения отношений Атыс долго камлал, но небесная жена, видимо, не горела желанием появляться в подобной ситуации. В конце концов он бессильно поставил бубен к стене. Увидев такой финал, земная жена обвинила Атыса во лжи, мол, нет и не было у него, выдумщика, никакой небесной подруги! Тут уже возмутился шаман и посоветовал жене самой глянуть в его бубен и узреть все лично. Надо было сделать это издалека, но жена схватила главный шаманский атрибут в руки. Из бубна тут же полыхнуло сияние и прозвучало лишь одно слово: «Ревнивица!..» Женщина пала замертво. Похоронив жену, Атыс пропел во время прощального камлания, чтобы все его последователи не забывали первого кама при жертвоприношениях и отыскивали его в ином мире, а потом вылетел в дымовое отверстие и навсегда исчез для простых смертных.
Может быть, все и было так, а может, Штернберг по своему обыкновению и на этот раз слишком выпятил в сюжете сексуальный фактор, который он не совсем обоснованно считал главным в шаманском обращении. Но в любом случае в услышанной истории что-то есть. Во всяком разе, самыми главными покровителями и помощниками алтайских шаманов и сегодня считаются переходящие по наследству духи их умерших предков-камов. И именно они, оставшись после смерти очередного шамана «сиротами», начинают упрашивать властителя подземного мира Эрлика избрать им нового хозяина и наслать на него шаманскую болезнь. Этот старец-демон с бородой до колен, челюстью-кожемялкой и рогами-корнями, живущий во дворце из черного железа и пьющий кровь вместо вина, и определяет личность будущего кама. А вот разрешение на изготовления бубна ему дает уже господин высоких небес Ульген. Потому-то, наверное, кам и может наносить визиты им обоим.
Но прежде, как и прочие шаманы мира, он должен пережить инициационную болезнь с впадением в беспамятство и посвящение. Последнее на мистическом плане выражается в том, что духи варят шамана в котле, отделяют мясо от скелета и подсчитывают кости. Их непременно должно быть хотя бы на одну больше, чем у обыкновенного человека. Если так и оказывается, кандидат становится камом, а его «лишняя кость» тут же присоединялась к костям ранее умерших шаманов рода. После наращивания на скелет нового тела и получения согласия от неофита стать шаманом, тут же происходит его выздоровление. Теперь надо лишь изготовить бубен, костюм – и в путь-дорогу…
Скажем, на небо. Дорога туда сложна и не всякому подвластна. Сначала кам должен добраться до главной мифической горы среднего мира, подняться на ее вершину и в качестве передышки искупаться там в молочном озере. После омовения у него есть возможность пообщаться с живущими на вершине духам, погрязшими в азартных играх, и попросить выигравших не забирать души земного скота и зверей. Кое для кого в силу шаманской слабости на этом земном отрезке и заканчивается все мистическое путешествие под звезды. Более же «продвинутые» направляются к устремленному с берега в небо гигантскому стоствольному тополю с золотыми листьями – алтайскому аналогу мирового дерева. По его ветвям они и попадают в царство небесных духов. На реальной земле мифическому тополю соответствует дерево с определенным числом ветвей, установленное перед камланием в юрте шамана и выведенное своей вершиной в дымоход.
Итак, шаман, прихватив в подарок божествам душу жертвенного коня, поднимается с ветви на ветвь, что символизирует переход с неба но небо, но одновременно он и летит туда с помощью собственного бубна, обращенного в волшебного коня, а затем в гуся. Обычно кам на финише такого перелета-восхождения благодарит Ульгена за дарованные блага и просит новых милостей для своего народа. Утверждают, что передает он эти и другие важные слова и просьбы главному божеству не непосредственно, а через духа Уткучы, которого верховный Бог высылает со своего седьмого неба навстречу шаману на небо пятое, к Полярной звезде. Дальше путь заказан любому каму. К тому же считается, что до божественных сфер вообще не добраться без еще одного главного духа-помощника – Дьайыка, что «падает в бубен кама» и тем самым придает ему силу. По другим версиям, самый великий кам может подняться аж до 12 неба, но неизвестно, встретится ли он там с Ульгеном, поскольку его алтайцы поднимают и на 16, и на 17 небеса.
При снисхождении в нижний мир шаману давали туда «пропуск» сыновья Эрлика, задобренные жертвоприношениями. Но сначала надо было в далеких южных землях взойти на непреступную скалистую гору, на склонах которой белели скелеты многих слабых шаманов, не сумевших покорить твердыню. Вершина горы таила свое коварство: она постоянно билась о небо, и нелегко было поймать миг и проскочить через острый пик к пещере, уводящей в преисподнюю. В еще более трудной и опасной подземной дороге «с семью страшными препятствиями» кама охраняли те самые духи предков-шаманов, что буквально облекали его тело броней из собственных субстанций. Они переносили его через черные пропасти и кипящие озера, помогали пройти по волосу над бушующим морем, защищали от гигантских гадов, свирепых хищников и в конце концов доводили даже до самого Эрлика, который, в отличие от Ульгена, хоть и неохотно, но все же вел личный прием избранных «ходоков». Подобных аудиенций надо было добиваться, чтобы возвратить похищенные подземными духами людские души или уговорить злых демонов отступиться от своих черных замыслов, расстроить их коварные планы.
Одной из главных обязанностей камов было и сопровождение душ умерших в соответствующий мир. Едва такая душа отделялась от тела, шаман должен был тут же ее поймать, накрыв бубном, чтобы она не прихватила с собой душу какого-нибудь из живых родственников. Порой случалось, что в перенаселенной преисподней не желали принимать новую жиличку, и тогда каму приходилось задабривать старожилов вином…
Из перечисленного видно, сколь важные функции выполнял шаман у алтайцев, что, конечно же, отражалось на его общественном статусе. Камы были очень уважаемыми людьми и нередко занимали в прошлом значительные административные и выборные должности.
Мы сознательно начали эту главу с алтайских камов и уделили им достаточно много места, потому что они наиболее типичны для своего региона и в то же время самобытны и, как считается, очень могущественны. Не даром же некоторые исследователи называли шаманизм Центральной и Северной Азии именно алтайским.
Не менее интересны и известны в мире и бурятские шаманы-бо, особенно своими очень сложными и многократными посвящениями и чудесными превращениями в различных живых существ.
Если вновь вспомнить легенду, то, в отличие от первого кама-донжуана, первый бо выглядел, скорее, ловкачом и хитрецом, поскольку смог провести самого Бога. А дело было так. К Всевышнему обратился с жалобой властитель нижнего мира, мол, ничего не могу поделать с шаманом – все души у меня перетаскал назад на землю, так скоро в преисподней одни злые духи останутся! Бог решил проверить лично, насколько силен и ловок шаман. Он поймал одну душу, запустил ее в бутыль и заткнул горлышко собственным пальцем: попробуй достань! В ответ на это бо превратился в пчелу и ужалил Бога в лоб. Тот, конечно, выдернул палец, чтобы хлопнуть себя ладонью по голове, а шаман тут же подхватил освободившуюся душу и был таков. После этого Бог заметно поубавил бурятскому шаману его волшебную силу, но все-таки ее осталось предостаточно для многих чудесных дел.
Поскольку эта версия больше похожа на анекдот, то приведем еще одну, более серьезную, записанную одним из первых исследователей бурятского шаманизма М.Н.Хангаловым. Предварительно лишь добавим, что наряду с делением мира по вертикали буряты делят небо над собой на западное, где живут добрые властители-заяны (бурханы), и восточное – обитель злых заянов. Пантеон сверхъестественных сил у этого народа просто огромен – только среди богов насчитывается 55 добрых и 44 злых, хотя, видимо, полностью ручаться за эти цифры невозможно. А кроме того существуют еще и полубоги, большие и малые духи.
Итак, западное небо создало общими усилиями людей, которые до поры до времени вели здоровую и счастливую жизнь. А потом вдруг на них обрушились смертельные болезни и стали косить под корень. У людей тогда не было шаманов, и они не могли знать, что все это – козни злых духов восточного неба. Тогда западные заяны собрались сначала на одной из звезд Плеяд, а затем перебрались поближе, на луну, и решили немедленно послать к людям шамана-бо. В качестве подходящей кандидатуры остановились на орле, хотя корни его родословной и тянулись со зловредного восточного неба.
Другие электронные книги автора Владимир Николаевич Фёдоров
Сезон зверя




 4.5
4.5