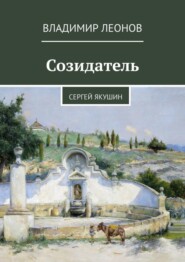По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В них и язык, и душа, и свобода. Русь в древних текстах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Далее, привлекает внимание известный эпизод расправы Ольги с древлянами. В основе этого эпизода легко узнается фольклорная образность, восходящая к сказочному жанру. Особенно характерен образ самой Ольги – главного действующего лица. При анализе фрагмента ее нередко сопоставляют с Бабой Ягой: на том основании, что она проявляет последовательную изобретательную жестокость в отмщении (троекратном, что существенно для архаического сознания), и притом перед смертью отправляет своих врагов помыться в бане. Но более важен другой прототип Ольги: образ мудрой жены (мудрой девы). Этот образ инвариантен (постоянен -авт.) для целого ряда волшебных сказок, где мудрая жена выступает в функции либо самого героя, либо волшебного помощника героя.
Здесь существенно то, что Ольга проявляет остроту ума, достигая своей цели, то есть мести. С названным фрагментом сопоставим другой: фрагмент сватовства к Ольге царя Константина. Ольга, не желая идти замуж за Константина, просит его крестить ее (а крещение было уже готовым ее намерением). После крещения Ольга отказывается от брака, мотивируя это тем, что по христианским законам брак с крестницей недопустим. «Перехитрила ты меня, Ольга», – соглашается Константин, тем самым признавая остроту ума Ольги, ее мудрость. Эти два эпизода легко сопоставимы, так как в обоих случаях на первый план выводится одно и то же качество героини: мудрость.
Для идеологии Повести эти эпизоды имеют немалое значение. В них, с опорой на модели архаической ментальности (троекратный повтор, мудрая жена), осуществляется осмысление Ольги как выдающегося своей мудростью исторического персонажа. Тем самым приобретают легитимность (то есть «законность») совершенные ею действия.
Для христианского историка главное из них, конечно, – это крещение, которое Ольга приняла, по-видимому, первой из княжеского рода. Поступок Ольги вовсе не был естественным в глазах современников. Существует предположение, что крещение Ольги вообще было тайным. Во всяком случае, еще и ее сын Святослав креститься наотрез отказался, мотивируя отказ тем, что «дружина станет насмехаться». Поэтому составителю летописи необходимо было представить Ольгу женщиной особой мудрости, чтобы все ее предприятия рассматривались как безусловно правильные и законные. Для этого и был спроецирован на исторического персонажа – Ольгу знакомый всем современникам из устной поэзии образ мудрой жены.
Обращение летописца к паттернам (модельным -авт.) архаической ментальности заметно и в других фрагментах Повести. Это безусловно касается рассказа о походе Владимира на Полоцк. Даже беглая реконструкция исторических обстоятельств, имевших место ко времени этого похода, показывает его нецелесообразность с точки зрения военной стратегии. Один из трех братьев-князей, Ярополк, убил другого, Олега. Узнав об этом, третий брат, Владимир, сидевший в Новгороде, испугался и бежал «за море» (так тогда назывались варяжские земли) собирать дружину. С дружиной варягов Владимир направился к Киеву, чтобы дать Ярополку решительный бой. И вот в такой-то момент Владимир посылает к полоцкому князю-варягу Рогволоду за его дочерью Рогнедой, которую хочет взять в жены. После отказа Рогнеды и Рогволода Владимир идет с войском к Полоцку, завоевывает город, убивает Рогволода и его семью, а Рогнеду силой берет в жены.
Казалось бы, для чего Владимиру отвлекать силы и заниматься семейными делами, когда на первом месте стоит вопрос о единоличном общерусском княжении, безусловно предполагающий гибель одного из двух братьев-князей? Причина становится понятной, когда мы вспоминаем, что Рогнеда была невестой Ярополка и ее уже «собирались вести» за него. Для архаического сознания очень узнаваем и понятен функционально-мотивный комплекс «взятие города / брак / воцарение», реализовавшийся, в частности, в целом ряде сказок, где герой побеждает царя, берет в жены его дочь (невесту, супругу) и сам становится царем. Актуализация одного из элементов этого комплекса немедленно вызывает ассоциации с другими. Поэтому овладение Рогнедой, невестой Ярополка, для Владимира было знаковым поступком, залогом победы над самим Ярополком и стяжания его власти.
Отметим, что этот мотивный комплекс используется в летописи не единожды. Второй случай его использования относится к записи под 988 годом, где речь идет о крещении Владимира. Предшествовало крещению взятие Владимиром Корсуни. Оттуда он посылает в Константинополь, требуя от царей Василия и Константина отдать за себя их сестру Анну и угрожая, в случае отказа, походом на сам Царьград. Правители соглашаются, поставив условием обращение Владимира в христианство – к чему Владимир, согласно летописному преданию, был уже готов. Здесь тоже взятие города (фактически – Корсуни, но предположительно, в случае неудачи сватовства – и Константинополя, в то время ослабленного военным мятежом) связывается с женитьбой на Анне: то и другое становится результатами одного военного похода. «Воцарению» же соответствует принятие Владимиром христианства: с точки зрения носителя новой религиозной культуры этот акт вполне может трактоваться как принятие высшего нового статуса.
Нелишне обратить внимание и на тот факт, что в Повести лишь двое из жен Владимира называются по имени: это Рогнеда и Анна. Именно они оказываются и действующими лицами в двух описанных версиях реализации архаического мотивного комплекса. По-видимому, эти два брака рассматривались летописцем как особенно значительные. И неудивительно. Ведь Рогнеда – варяжская княжна, тогда как Анна – византийская принцесса. Таким образом, при помощи этих двух браков, второй из которых прямо династический, Владимир стяжает родство с двумя ведущими народами современности, варягами и греками.
Зарождающаяся русская нация взяла от сопредельных народов то, что составляло их достоинство в истории. От варягов был взят институт сильной военной княжеской власти, легшей в основу государственного устройства последующих времен. От греков было принято христианство, вводившее Русь в космос европейской культуры. Однако летописец не преминул показать, что то и другое было взято славянами не путем просительства, а с позиции равенства, обеспеченного силой.
Призванию варягов предшествовало их изгнание (862 год). Варяги прежде собирали дань со славянских земель как захватчики. Они были изгнаны. И уже после этого были приглашены Рюрик, Синеус и Трувор, княжение которых заключалось в том, чтобы «судить по праву». Затем, в 988-м году, крещение было принято от греков на фоне убедительной военной победы, поставившей под угрозу суверенитет Константинополя. Как видно, в обоих случаях состоится демонстрация силы, после чего славяне принимают от соседей то, что им необходимо: военно-княжескую власть и начала христианской цивилизации.
До сих пор мы видели, что летописец использует в качестве суггестивного средства обращение к моделям архаического сознания, очень живым и внятным для его современников-соотечественников, людей, лишь недавно оторвавшихся от языческой стихии. Именно такая апелляция к ресурсам архаической психики и становится основным приемом текстопостроения, регулярно используемым летописцем.
Однако и аллюзии и реминисценции, относящиеся к христианской сфере представлений, также присутствуют в Повести в качестве организующих текст приемов. Так, при рассказе о крещении Владимира вводится эпизод со слепотой: князь внезапно теряет зрение, и получает от царицы известие, что прозреет, когда крестится. И действительно, в ходе совершения обряда Владимир прозревает.
Этот эпизод содержит прямую реминисценцию из Нового Завета, из Деяний апостолов (Деян. 9: 17—18). Савл, видный фарисей и гонитель христиан, был поражен слепотой от Бога и прозрел, принимая крещение, после чего он становится апостолом Павлом. Эта реминисценция приводит читателя к сопоставлению двух исторических лиц, апостола Павла и князя Владимира. Обращение и дальнейшая проповедь первого начинает рассматриваться как прецедент к деятельности Владимира. Не случайно в русской средневековой книжности князь Владимир величается как «равноапостольный»: соответствующий концепт уже заложен в Повести.
Другое сопоставление организуется при помощи интерпретации крестного имени княгини Ольги: Елена. Это имя матери византийского императора III века Константина, который сделал христианство в Византии государственной религией. Под 1015 годом, воздавая хвалу Владимиру, летописец прямо говорит: «То новый Константин великого Рима; как тот крестился сам и людей своих крестил, так и этот поступил так же». Родственная пара Елена – Константин в византийской истории (мать – проповедница христианства, сын – креститель) находит параллель в истории русской, хотя и с добавлением расстояния в одно поколение родства: Ольга – бабка, Владимир – внук. За счет этого приема византийская история начинает выглядеть как своего рода прецедент для русской; а русская, в свою очередь, как новая версия и продолжение византийской.
Нетрудно заметить, что последнее сопоставление дает почву для историософских интерпретаций мессианского характера: о неком избранничестве, или особом историческом пути Руси. Византийская история продолжается в русской, то есть Русь принимает эстафету мирового христианства. Это та самая идея, которая спустя почти пятьсот лет оформилась в известную концепцию «Москва – третий Рим» у старца Филофея и идеологов эпохи Ивана Грозного.
Содержание этой концепции основано на идее «странствующего царства». Согласно этой идее, на земле всегда есть только одно подлинное, «от Бога», царство. Первой столицей этого царства был Рим. После его падения земное царство переместилось в Византию, столицу которой, Константинополь, так и называли: второй Рим. После падения Константинополя в XV веке крупнейшей православной землей стала Русская земля, впоследствии стремительно централизовавшаяся вокруг Москвы и превратившаяся в национальное государство. Поэтому на Руси возникло представление, что «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать».
Первоначально эта концепция имела апокалиптический характер: не бывать не потому, что московское христианство самое лучшее и в силу этого окончательное; а просто потому, что времена заканчиваются. Ведь тогда со дня на день ждали конца света. И лишь впоследствии, в XVII столетии, эта концепция приобрела черты имперской идеологии, в каковом прочтении бытует в отдельных кругах и поныне.
Корни этой концепции, пережившей новый расцвет во второй половине XIX – начале ХХ столетия, как видим, находятся у самых истоков русской христианской культуры.
Необходимо помнить то обстоятельство, что между летописным изложением и подлинными событиями может существовать зазор. Рассматривая памятники письменности, мы имеем дело не с фактами истории, а с текстом, в котором эти факты так или иначе преломились и для которого они послужили только материалом. Направление преломления фактов связано с теми задачами, которые ставил себе создатель текста. И можно судить о задачах, важных для создателя Повести. Работая с текстом летописи, мы стремимся понять так или иначе выраженные замысел и цель летописца, а не реконструировать достаточно зыбко проглядывающие за ними факты эмпирической истории.
А цель летописца, как видно, заключалась в том, чтобы показать: Русь соединила достоинства варягов и греков и унаследовала мифологизированный исторический опыт Византии – второго Рима, таким образом, сделавшись выдающейся силой христианского мира. Для достижения этой цели книжник использовал отсылки к фольклорным и мифологическим представлениям, а также прием реминисценции.
Повесть, таким образом, предстает нам как особым образом «сделанный», то есть специально выстроенный, текст.
Идеология и построение памятников XI века
Сопоставление «Повести временных лет» с другими произведениями начального этапа становления русской словесности показывает, что между ними имеются сходства в плане идеологии, используемых приемов текстопостроения и в плане социокультурного бытования.
Так, близко к «Повести временных лет» так называемое «Слово о Законе и Благодати», созданное около сороковых годов XIX века и приписываемое киевскому митрополиту Илариону. По мнению В. Н. Топорова, помимо оригинальности композиционного решения, Слово примечательно тем, что в нем впервые формулируется «русская идея», включающая представления о единстве Руси:
а) в пространстве и, соответственно, в сфере власти,
б) во времени, то есть в духовной традиции,
в) в нравственном идеале святости.
Аудиторией «Слова о Законе…» выступает численно ограниченная прослойка книжных людей – ученая корпорация князя Ярослава. Именно эту идеологическую верхушку следовало укрепить в сознании религиозной и национальной самостоятельности Руси, что и делает Иларион в своем Слове.
Произведение состоит из трех содержательно и конструктивно различающихся частей. «Композиционная триада «Слова о законе и благодати» соответствует триаде историософской.
Первый элемент конструкции – история человечества, второй – приобщение к христианству нового народа, третий – славословие в честь того, кто привел этот народ ко Христу». Основой первого фрагмента конструкции служит параллелизм: книжник приводит на память аудитории библейский фрагмент об Аврааме, Агари и Сарре, и толкует его как прецедент, указывающий направление истории человечества.
Агарь, рабыня-наложница Авраама, символизирует у Илариона Закон, а Сарра, жена Авраама – Благодать. Агарь и ее сын Измаил отвергаются Авраамом, когда престарелая Сарра по Божественной воле рождает Исаака (Быт. 16, 21). Так же и в истории ветхозаветный закон отвергается, или преодолевается, человечеством, когда оно удостаивается Благодати Нового завета. Как видно, символика начального фрагмента не выходит за рамки общехристианских убеждений. Конструктивно этот фрагмент построен на антитезах, усиленных путем специального подчеркивания синтаксическими средствами.
Второй фрагмент прославляет Христа и появление в лоне христианской веры новообращенного народа. Здесь книжник опирается на евангельскую притчу о том, что не вливают вина нового в мехи ветхие (Мф. 9: 17). Поэтому, по Илариону, «подобало благодати и истине воссиять над новым народом». Здесь мы узнаем близкую мысль к той, которая прозвучала в Повести: об особом предназначении новообращенного русского народа. Этот второй фрагмент еще в большей степени, чем первый, отличается изощренной риторической организацией, так что «Слово» Илариона в конструктивном аспекте оказывается на уровне высочайших образцов современной ему риторической техники. Не случайно церковные и светские исследователи согласно считают Слово о Законе и Благодати краеугольным камнем русской книжности.
Наконец, третья часть Слова содержит развернутую похвалу князю Владимиру. Риторическая последовательность этой похвалы постепенно перерастает в гимн, тяготеющий к форме акафиста, с характерным для него последованием икосов, как положено в этой жанровой форме, содержащих восклицание «Радуйся!», обращенное к Владимиру. В этой части в сознание аудитории интенсивно внедряются принципиально новые концепты (идеи) «Владимир равноапостольный» и «Киев – новый Константинополь», ключевые для идеологии «Слова». Для их внедрения Иларион задействует потенциал книжной риторики с ее орнаментальными (украшающими речь) приемами.
В еще большей степени идеологическая заданность и риторическая организация были свойственны проповедям Феодосия Печерского. Так, его «Слово о вере христианской и латинской» (1069 г.) содержит идею неприятия католической веры. При этом оно заострено публицистически: это обращение к киевскому князю Изяславу, вступившему в военный союз с поляками, то есть католиками. Прямое указание Изяславу на его неправоту было затруднительно, да и небезопасно. Поэтому Феодосий избирает косвенный путь: он бранит католичество (что очень соответствовало духу тогдашней иностранной, в первую очередь византийской, православной публицистики), и в этом контексте представляет недопустимым военное сотрудничество с католиками-поляками. Скрытая и притом основная тактика Слова обличает Запад вообще и конкретно – союз с ним князя Изяслава.
Будучи предназначено для Изяслава в тот момент, когда он ополчился против киевских граждан с помощью поляков, Слово призывает его отказаться от подобного союза. При этом используются обыкновенные в публицистике всех времен «софистические» приемы: «приклеивание ярлыков», «игра обрывочными цитатами», «аксиоматичность доказательства» и тому подобные.
Подчеркнем еще раз бытование письменности киевского периода лишь в высших социокультурных слоях. Распространенное заблуждение насчет всеобщего характера просвещения в это время выпукло проявляется в обыкновенной школьной трактовке известного «Поучения» Владимира Мономаха как свода правил, обязательных для исполнения любым человеком. Однако даже при самом первом приближении к непредвзятому рассмотрению памятника в нем обнаруживаются указания на то, как содержать слуг и рабов, как вести себя во время выезда на охоту и т. п., выдающие обращенность именно к аристократической аудитории. «„Поучение“ <…> ориентировалось на сравнительно узкий круг лиц, было предназначено княжескому окружению. Мономах говорит не о христианском долге вообще, но о добродетелях князя, правителя, полководца, ратника, воспитателя, полновластного господина подданных».
Все сказанное позволяет сделать обобщение. Ранний этап развития русской словесности (XI – XII вв.) был этапом спецификации (обособления) письма. На этом этапе происходило разделение риторик (речевых типов) книжности и устной словесности. Институциализация письменности противопоставила ее устной поэзии; письмо оказалось маркировано в культурном отношении. Дальнейшее развитие словесности происходило в пространстве письменного, а не устного слова. Письменность возникала и развивалась как идеологический язык власти.
Создание оригинальной книжности становилось насущной задачей, решение которой позволяло утвердить культурную и политическую независимость Руси от Византии. Спецификация письма обеспечивала оформление и структурирование смыслового поля русской христианской культуры. Знакомство с византийской и европейской литературой задало русской словесности модель жанровой системы, но эту модель предстояло наполнить собственным материалом. Наполнение совершалось в продолжение XI – XII вв. В этом «наполнении» и проявилось содержания этапа спецификации письма, времени созидания самого «тела» книжной культуры.
Вопросы для самопроверки
– С чего начинает летописец свое повествование? Как такое начало влияет на интерпретацию истории?
– Для чего в Повести включается легенда об апостоле Андрее?
– Каково происхождение мотива «трех братьев»? Как и для чего он включается в Повести?
– Как и для чего в контексте фольклорной образности Повести интерпретирует фигуру княгини Ольги?
– В каких случаях и для чего в Повести задействуется архаический паттерн «взятие города – брак – воцарение»?
– Какие средства в Повести помогают представить русскую историю как продолжение византийской?
– Охарактеризуйте конструкцию и концепцию Слова о Законе и Благодати.
– Найдите в словарях значение слов «акафист», «икос»; проследите в «Слове о Законе и Благодати» использование формы икоса.
– Какова публицистическая задача и средства ее решения в «Слове о вере христианской и латинской» Феодосия Печерского?
– С опорой на текст охарактеризуйте аудиторию «Поучения» Владимира Мономаха.
– Охарактеризуйте содержание эволюционного этапа спецификации письма.