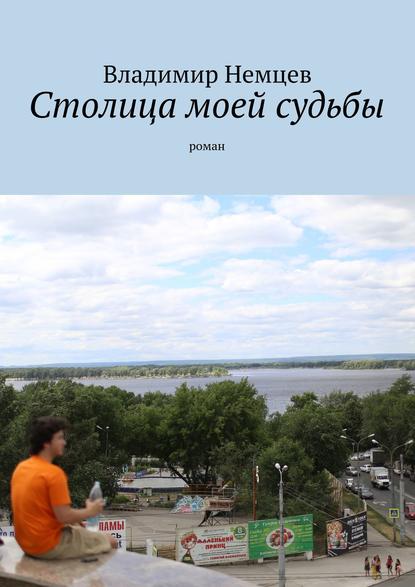По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Столица моей судьбы. роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Столица моей судьбы. роман
Владимир Иванович Немцев
Книга об офицере Императорской гвардии, который вжился в советскую жизнь, воспитал приемного сына, избавился от охоты на себя французской разведки и стал невидимым символом Самары. Человек и город сплелись в одну удивительную судьбу.
Столица моей судьбы
роман
Владимир Иванович Немцев
Фотограф Владимир Иванович Немцев
© Владимир Иванович Немцев, 2018
© Владимир Иванович Немцев, фотографии, 2018
ISBN 978-5-4474-6292-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1.
Самара маленький город. Все настоящие города имеют небольшие размеры и большой возраст. Их городское ядро обрастает прилегающими районами, которые не имеют такого большого значения, как старые, хотя и вписывают город в современную жизнь.
Мы с дедом жили в самом центре старого города, на углу Красноармейской и Галактионовской в двухэтажном строении, низ которого был кирпичный, а верх бревенчатый. Занимали мы в нём половину нижней части, выходившей на улицу. И летом хорошо видели, как мимо нашего дома проносились в сторону Волги мальчишеские орды, загорелые, как полчища захватчиков. А следом их отцы и старшие братья везли на самодельных тележках проконопаченные во дворах деревянные лодки, с помощью которых можно было накормить рыбой всё прожорливое семейство.
Дед в этом соблюдал нейтралитет, потому что хозяйство наше было маленькое и старое, как город. Да и купаться мы ходили довольно редко, зато днём и ночью слушали грохотанье трамваев, от которых дом содрогался. Трамваи ходили по двум маршрутам: «Советская площадь (бывшая Хлебная) – Тюрьма» и «Площадь Революции (бывшая Алексеевская) – Тюрьма», и оба маршрута пересекались перед нашими окнами. Сама же тюрьма представляла уменьшенную копию питерских Крестов, и слыла комфортабельной. По слухам, гуляющим в городе, в ней мечтали побывать все подрастающие самарские хулиганы, точно так же, как остальные – законопослушные – граждане непрочь были хоть завтра оказаться в коммунизме. Никто, впрочем, не мог точно объяснить, что это такое, зато про тюрьму знал каждый. Но для меня коммунизм был неким «временем», которое, возможно, когда-то настанет.
Когда отменили заводские гудки, я по трамваям пытался определить время текущее, но оно от меня всё равно ускользало: трамваи ходили нерегулярно, да и часто ломались. Зато на них было хорошо кататься. Грохот и качанье в салоне создавали впечатление военного окружения, из которого я обязан был вырваться, и хотя я не мог дотянуться до петлистых ремешков, за которые держались взрослые, всё равно пытался это сделать. Когда же у меня это стало получаться, то все ремешки разом пропали.
– Шантрапа порезала, – объяснил дед.
Эта шантрапа шлялась вечерами мимо окон, зыркая из-под козырьков кепочек за занавески, однообразными движениями рук доставая из огромных карманов семечки и кидая их в слюнявые рты, облепленные шелухой.
Как-то перед финской войной два таких архаровца, вскрыв дверь, забрались к нам, но дед, несмотря на свои старые годы, уложил их на пол. Я проснулся от их визга и увидел, что дед ловко и быстро обматывает их руки верёвкой, на которой мы сушили в коридорчике стираное бельё. Я во все глаза смотрел, как дед потом поставил этих налётчиков, привязанных друг к другу, на ноги, сделал внушение на непонятном мне грубом языке, потом пинками вытолкал вон.
Дед мне строго-настрого запретил гордиться его подвигом, но, хотя я и боялся запрета, всё-таки про себя ещё долго гордился своим дедом. И не столько из-за надёжной обороны дома, сколько за то, что дед вообще всё умел да почти всё на свете знал. Да что там «гордился», я обожал его!
Мне нравилось смотреть ему вслед, когда он с достоинством шествовал по правому краю тротуара, неизменно предупредительно уступая дорогу любой женщине, и редкая не замечала этой непривычной галантности. Многие ещё с удивлением, а то и восхищением, оглядывались на крепкого большого бородача, одетого как мастеровой, на его прямую широкую спину, мощные кисти рук и горделиво сидящую голову с русыми с лёгкой проседью волосами, ровно подстриженными под «горшок».
Лишь только началась финская война, по городу ночами стали ездить машины с милиционерами и мотоциклы с солдатами-автоматчиками, и все блатные куда-то враз пропали, как ремешки из трамвайных салонов. Дед постоял в очередях в паре магазинов и всё разузнал. Оказывается, в результате облав на знаменитые на всю страну самарские «малины» всех обитателей забрили на финскую войну. Потом добрали остальных по их постелям. Почти никто не вернулся, зато уж вернувшиеся бродили по пивным какие-то задумчивые и тревожно позванивали медалями на пиджаках.
А вот с домом произошла страшная история. Я как-нибудь расскажу про неё, только соберусь с духом.
2.
Когда 2 марта 1917 года разнеслось известие об отречении Николая II от престола, подполковник Спиридонов находился с инспекцией в Московском Кремле. Он немедленно сделал звонок императору и несдержанно упрекнул его за это решение; связь была великолепная, сквозь слабые индукционные щелчки, шуршания, жужжания, улавливалось даже дыхание Николая.
– Ваше императорское величество, – сказал он, – дело недостаточно подготовлено, ваш брат откажется, и…
– Господин подполковник, вы можете ко мне больше так не обращаться, мы с вами почти одинакового воинского звания, – ответил ему царь обычным спокойным голосом.
– Ваше величество, никогда нам не быть на равных! Вы не можете не знать, что история выстраивает свою субординацию.
– Конечно, выстраивает, но не судите меня строго… Николай Васильевич, я готов с вами обсудить некоторые исторические обстоятельства послезавтра в Константиновском дворце, если ничего не изменится.
Оговорка императора, пускай и уже бывшего императора, ясно указывала на тревожность ситуации. Поэтому подполковник Спиридонов спешно поехал на вокзал. Поручик Рагузов с умоляющим лицом сунул ему красный бант.
– Зачем эта декорация?
– Дело серьёзное, мы тут даже не представляем, куда всё зашло, в Петрограде уже многие ходят с бантами.
Николай Васильевич взял, но, правда, обошлось. Через день он с улыбкой показал помятый бант Николаю в качестве образчика конспиративной забавы. Но Николай по-прежнему избегал разговоров на «исторические» темы. Он покосился на бант и попросил подполковника составить опись документов и предметов, которая будет затем подписана. Так всё и произошло.
– Николай Васильевич, я препоручаю это вам с большой надеждой, – сказал Николай. – Надеюсь, когда-нибудь скоро смута уляжется, и мы вернёмся к этому делу.
– Ваше императорское величество, готов уже сейчас обсудить все вероятные варианты событий.
– Успеется, – промолвил Николай и протянул раскрытую ладонь для рукопожатия. Потом качнулся к недоумённому Спиридонову и поцеловал его троекратно. И ещё бегло перекрестил.
А через неполную неделю Николай и его семья были арестованы по распоряжению министра юстиции Временного правительства Александра Керенского. Пять месяцев они жили под охраной в Царском Селе, пока Временное правительство расследовало обвинение в государственной измене императрицы Александры Фёдоровны. Улик не нашлось, и правительство попыталось выслать Романовых в Англию, но король англосаксов Георг V не пожелал приютить своих родственников. Из-за злобных антимонархических настроений в Петрограде Романовых в августе переправили через Урал в Азию, в Тобольск. Спиридонов узнал об этом тотчас. И ещё он знал, что Николай святой, потому что не от мира сего. Но нельзя было никак объяснить этого впечатления. С тех пор, постоянно занимаясь делами, Николай Васильевич часто ловил себя на незаметно приходящем ощущении чьей-то святости и лёгкости жития.
Он спустя полмесяца отправился в Тобольск с несколькими своими людьми. Между ними начались споры, колебания. В оправдание можно сказать, что ситуация была совершенно непонятная и противоречивая, любые свои действия могли и нанести вред. Так ушло время, пока 30 марта 1918-го по старому стилю большевистская охрана перед угрозой наступавшего из Сибири адмирала Колчака не перевела Романовых в Екатеринбург и не сдала местному Совету, потребовав подробную расписку.
За это и последующее время произошла масса паршивых событий. Во-первых, Временным правительством 1 сентября 1917-го года была образована Российская республика, которая учредила Совет пяти, в сущности, французскую Директорию. Об этом Спиридонову со всеми обстоятельными подробностями рассказал один из надёжных агентов в Петрограде. Теми пятью, пояснил он, были министры Временного во главе с Александром Фёдоровичем Керенским, вырастающим до диктатора. Они были настроены править железной рукой для утверждения Республики. Правда, Керенскому твёрдости так и не хватило, Совет просуществовал до 25 сентября, пока не образовалось уже третье, коалиционное, правительство. «Вот и оставался бы диктатором», – в сердцах пробормотал Спиридонов, отвернувшись от удивлённого взгляда агента.
Во-вторых, потом большевики совершили нахальный, пускай и не совсем незаконный, переворот – полномочия у правительства истекли. Захват власти был ещё хуже, чем непоследовательность Временных. Эта акция у здравомыслящих людей вызвала понятную тревогу, особенно если учитывать германо-большевистские связи, ни для кого не бывшие тайной. Но по порядку.
Вскоре после захвата власти большевиками второго ноября началось формирование Добровольческой армии в Новочеркасске, ядро которой составила группа Георгиевского полка, торжественно прибывшая уже шестого. Очень быстро эту армию окрестили «Белой». Видимо, тогда уже, из-за добровольцев, положение Романовых сильно осложнилось и становилось всё хуже и хуже. Довольно скоро несколько советских комиссаров, появившихся в Тобольске неизвестно по чьему полномочию, стали требовать передачи «граждан великих князей» в их распоряжение.
Впрочем, как бы в противовес, 12 ноября начались исторически долгожданные выборы в Учредительное собрание. 25-го они закончились в большинстве округов, в остальных – в декабре. Из избранных семиста с лишним депутатов большинство представили эсеров и другие демократические партии, четверть – большевиков, а кадеты и правые партии победили тринадцатью процентами депутатов. Собрание никак не могло собраться по формуле «пятьдесят процентов плюс один депутат», чтобы была возможность принимать решения. Словно бы что-то или кто-то мешал народным избранникам добраться до Таврического дворца в Петрограде и собрать кворум. Когда же они стали понемногу подтягиваться, большевистская фракция под одним из предлогов покинула Собрание. Разумеется, после нескольких вскриков и угрожающих телодвижений большевиков 6 января 1918-го года вышел Декрет Ленина о роспуске Учредительного собрания, якобы не торопящегося собирать новое правительство. Но все в России прекрасно знали, что депутаты явно не были настроены оставлять самосозданное правительство, а хотели сформировать пускай коалиционное, но своё. Недовольных роспуском большевики начали расстреливать прямо на улицах в нескольких городах России, и иногда вместе с семьями – для пущей острастки. Вот вам, наконец, и долгожданная революция!
И дальше понеслось… 3 марта подписан ужаснейший мирный договор с Германией. К этому всё и шло. Одновременно большевики, видимо, готовые одарить немцев Питером, перебрались в Москву, сделав её двенадцатого марта столицей. И уже в Москве, 24 марта, организовали в РКП (б) Венгерскую группу во граве с Бела Куном. Кого как, а Спиридонова этот факт поразил больше всего, когда натолкнул на очевидную мысль, что готовятся карательные акции, раз уж начались такие дружеские объятия с теми иностранцами, с которыми только что воевали. Не будет же русский солдат, какой бы он ни стал за всю продажную войну, так уж легко и, главное, регулярно стрелять в своих, православных. Вот и нашли таких…
Впрочем, подполковник Спиридонов отдавал должное Ленину – глава советского правительства намеревался провести открытый судебный процесс над низложенным монархом, где в качестве обвинителя уже был назначен Лев Троцкий. Но к тому времени уже началась Гражданская война. К Екатеринбургу рвались белые, а анархисты повсюду орали, что бывшего царя следует ликвидировать, дабы «не достался б никому». Уралоблсовет лихорадочно обменивался с Москвой шифрованными телеграммами, в которых настаивал на «решительном варианте». В Москве шли жаркие споры Ленина с главой государства Яковом Свердловым. «Именно всероссийский суд, и с публикацией в газетах!» – кипел гневом Ленин. – «Мы подсчитаем, какой людской и материальный урон нанёс самодержец стране за годы царствования. Николая Кровавого на суд народа!», – взывал Ленин.
Яков Михайлович не ругался, не спорил особенно-то, он о чём-то думал, чего-то выжидал. И, наконец, как следствие всего, исполком Уральского областного совета 16 июля 1918-го самостоятельно принял – вероятно, устное, – решение о расстреле, а в ночь на 17 июля узники подвала дома Ипатьева в центре Екатеринбурга были внезапно расстреляны – Николай, царица Александра Федоровна, их пятеро детей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, несовершеннолетние Анастасия и цесаревич Алексей, а также несколько домочадцев: доктор Евгений Боткин, слуги Алексей Трупп, Иван Харитонов, Анна Демидова. Всего одиннадцать человек. Ни суда, ни следствия, как это повелось в новой России.
Президиум ВЦИК РСФСР тут же получил шифровку об исходе. И признал «правильными действия уральских товарищей». В выписке из протокола этого заседания шла речь исключительно о расстреле Николая Романова. Советская печать наутро торжественно объявила об этом. А семья его будто бы спрятана в «надёжном месте»…
Едучи в какой-то поддёвке в третьем классе поезда на Москву, Николай Васильевич кусал губы, вытирая глаза и небритые щёки, и говорил себе: «Наша беда в безупречном законопослушании. Император сделал это принципом, зато большевики показали нам, как надо действовать в крайнем положении. Корю себя за то, Господи, что не решился вовремя на активную операцию в Екатеринбурге, и даже ещё раньше, отсеяв колеблющихся. Нет оправдания! А ведь стал уже понимать, что такое большевики, с их общемировым апломбом, злобными вывертами, да довоенные настроения довлели. Непростительно! Безнадёжно!».
3.
Согласно месту проживания я должен был бы посещать школу на улице Льва Толстого. Это было огромное новое здание из серого силикатного кирпича, оно находилось через квартал по диагонали от нашей квартирки. Однако когда мы явились туда летом с дедом, нам сказала дежурная учительница с красной повязкой на руке, что ученики уже были набраны начиная с мая, принимались даже живущие в районе двадцать пятой, пятнадцатой и шестой школ. Почему? Так это же самые образцовые школы центральной части города.
Я ничего из этого разговора не понял, но меня обрадовала возможность попасть в 6-ю школу, находящуюся ближе других. Она стояла на самом красивом месте. С одной стороны противоположного квартала располагался штаб Приволжского военного округа, и с высокой его башни регулярно били боем часы. При этом командиры, идущие по тротуару, привычно задирали рукав гимнастёрки и сверяли свои наручные хронометры. Посередине же этого квартала стоял особнячок в окружении сада. Позднее, во время войны, в нём жил знаменитый тенор Козловский. Дед несколько раз в большом волнении ходил туда, надеясь, подобно романтически восторженному гимназисту, встретиться с Иваном Семёновичем. И один раз наконец повидал его, но издали, когда певец вышел из машины и пошёл к дому в сопровождении двух военных. Дед, придя домой, подробно рассказал мне про это, и вдруг расстроился до слёз. Его всегда неописуемо трогал голос Козловского по радио, а что же говорить про то, если бы довелось услышать вживую.
По диагонали через перекрёсток стоял особняк, увитый каменными и потрескавшимися цементными лилиями, его окружала ограда с коваными стеблями лилий. А за особняком высился кирпичный костёл, построенный ссыльными поляками. Если же выйти на угол здания школы, то внизу виднелась Волга с лесами и заливами на противоположном берегу.
Владимир Иванович Немцев
Книга об офицере Императорской гвардии, который вжился в советскую жизнь, воспитал приемного сына, избавился от охоты на себя французской разведки и стал невидимым символом Самары. Человек и город сплелись в одну удивительную судьбу.
Столица моей судьбы
роман
Владимир Иванович Немцев
Фотограф Владимир Иванович Немцев
© Владимир Иванович Немцев, 2018
© Владимир Иванович Немцев, фотографии, 2018
ISBN 978-5-4474-6292-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
1.
Самара маленький город. Все настоящие города имеют небольшие размеры и большой возраст. Их городское ядро обрастает прилегающими районами, которые не имеют такого большого значения, как старые, хотя и вписывают город в современную жизнь.
Мы с дедом жили в самом центре старого города, на углу Красноармейской и Галактионовской в двухэтажном строении, низ которого был кирпичный, а верх бревенчатый. Занимали мы в нём половину нижней части, выходившей на улицу. И летом хорошо видели, как мимо нашего дома проносились в сторону Волги мальчишеские орды, загорелые, как полчища захватчиков. А следом их отцы и старшие братья везли на самодельных тележках проконопаченные во дворах деревянные лодки, с помощью которых можно было накормить рыбой всё прожорливое семейство.
Дед в этом соблюдал нейтралитет, потому что хозяйство наше было маленькое и старое, как город. Да и купаться мы ходили довольно редко, зато днём и ночью слушали грохотанье трамваев, от которых дом содрогался. Трамваи ходили по двум маршрутам: «Советская площадь (бывшая Хлебная) – Тюрьма» и «Площадь Революции (бывшая Алексеевская) – Тюрьма», и оба маршрута пересекались перед нашими окнами. Сама же тюрьма представляла уменьшенную копию питерских Крестов, и слыла комфортабельной. По слухам, гуляющим в городе, в ней мечтали побывать все подрастающие самарские хулиганы, точно так же, как остальные – законопослушные – граждане непрочь были хоть завтра оказаться в коммунизме. Никто, впрочем, не мог точно объяснить, что это такое, зато про тюрьму знал каждый. Но для меня коммунизм был неким «временем», которое, возможно, когда-то настанет.
Когда отменили заводские гудки, я по трамваям пытался определить время текущее, но оно от меня всё равно ускользало: трамваи ходили нерегулярно, да и часто ломались. Зато на них было хорошо кататься. Грохот и качанье в салоне создавали впечатление военного окружения, из которого я обязан был вырваться, и хотя я не мог дотянуться до петлистых ремешков, за которые держались взрослые, всё равно пытался это сделать. Когда же у меня это стало получаться, то все ремешки разом пропали.
– Шантрапа порезала, – объяснил дед.
Эта шантрапа шлялась вечерами мимо окон, зыркая из-под козырьков кепочек за занавески, однообразными движениями рук доставая из огромных карманов семечки и кидая их в слюнявые рты, облепленные шелухой.
Как-то перед финской войной два таких архаровца, вскрыв дверь, забрались к нам, но дед, несмотря на свои старые годы, уложил их на пол. Я проснулся от их визга и увидел, что дед ловко и быстро обматывает их руки верёвкой, на которой мы сушили в коридорчике стираное бельё. Я во все глаза смотрел, как дед потом поставил этих налётчиков, привязанных друг к другу, на ноги, сделал внушение на непонятном мне грубом языке, потом пинками вытолкал вон.
Дед мне строго-настрого запретил гордиться его подвигом, но, хотя я и боялся запрета, всё-таки про себя ещё долго гордился своим дедом. И не столько из-за надёжной обороны дома, сколько за то, что дед вообще всё умел да почти всё на свете знал. Да что там «гордился», я обожал его!
Мне нравилось смотреть ему вслед, когда он с достоинством шествовал по правому краю тротуара, неизменно предупредительно уступая дорогу любой женщине, и редкая не замечала этой непривычной галантности. Многие ещё с удивлением, а то и восхищением, оглядывались на крепкого большого бородача, одетого как мастеровой, на его прямую широкую спину, мощные кисти рук и горделиво сидящую голову с русыми с лёгкой проседью волосами, ровно подстриженными под «горшок».
Лишь только началась финская война, по городу ночами стали ездить машины с милиционерами и мотоциклы с солдатами-автоматчиками, и все блатные куда-то враз пропали, как ремешки из трамвайных салонов. Дед постоял в очередях в паре магазинов и всё разузнал. Оказывается, в результате облав на знаменитые на всю страну самарские «малины» всех обитателей забрили на финскую войну. Потом добрали остальных по их постелям. Почти никто не вернулся, зато уж вернувшиеся бродили по пивным какие-то задумчивые и тревожно позванивали медалями на пиджаках.
А вот с домом произошла страшная история. Я как-нибудь расскажу про неё, только соберусь с духом.
2.
Когда 2 марта 1917 года разнеслось известие об отречении Николая II от престола, подполковник Спиридонов находился с инспекцией в Московском Кремле. Он немедленно сделал звонок императору и несдержанно упрекнул его за это решение; связь была великолепная, сквозь слабые индукционные щелчки, шуршания, жужжания, улавливалось даже дыхание Николая.
– Ваше императорское величество, – сказал он, – дело недостаточно подготовлено, ваш брат откажется, и…
– Господин подполковник, вы можете ко мне больше так не обращаться, мы с вами почти одинакового воинского звания, – ответил ему царь обычным спокойным голосом.
– Ваше величество, никогда нам не быть на равных! Вы не можете не знать, что история выстраивает свою субординацию.
– Конечно, выстраивает, но не судите меня строго… Николай Васильевич, я готов с вами обсудить некоторые исторические обстоятельства послезавтра в Константиновском дворце, если ничего не изменится.
Оговорка императора, пускай и уже бывшего императора, ясно указывала на тревожность ситуации. Поэтому подполковник Спиридонов спешно поехал на вокзал. Поручик Рагузов с умоляющим лицом сунул ему красный бант.
– Зачем эта декорация?
– Дело серьёзное, мы тут даже не представляем, куда всё зашло, в Петрограде уже многие ходят с бантами.
Николай Васильевич взял, но, правда, обошлось. Через день он с улыбкой показал помятый бант Николаю в качестве образчика конспиративной забавы. Но Николай по-прежнему избегал разговоров на «исторические» темы. Он покосился на бант и попросил подполковника составить опись документов и предметов, которая будет затем подписана. Так всё и произошло.
– Николай Васильевич, я препоручаю это вам с большой надеждой, – сказал Николай. – Надеюсь, когда-нибудь скоро смута уляжется, и мы вернёмся к этому делу.
– Ваше императорское величество, готов уже сейчас обсудить все вероятные варианты событий.
– Успеется, – промолвил Николай и протянул раскрытую ладонь для рукопожатия. Потом качнулся к недоумённому Спиридонову и поцеловал его троекратно. И ещё бегло перекрестил.
А через неполную неделю Николай и его семья были арестованы по распоряжению министра юстиции Временного правительства Александра Керенского. Пять месяцев они жили под охраной в Царском Селе, пока Временное правительство расследовало обвинение в государственной измене императрицы Александры Фёдоровны. Улик не нашлось, и правительство попыталось выслать Романовых в Англию, но король англосаксов Георг V не пожелал приютить своих родственников. Из-за злобных антимонархических настроений в Петрограде Романовых в августе переправили через Урал в Азию, в Тобольск. Спиридонов узнал об этом тотчас. И ещё он знал, что Николай святой, потому что не от мира сего. Но нельзя было никак объяснить этого впечатления. С тех пор, постоянно занимаясь делами, Николай Васильевич часто ловил себя на незаметно приходящем ощущении чьей-то святости и лёгкости жития.
Он спустя полмесяца отправился в Тобольск с несколькими своими людьми. Между ними начались споры, колебания. В оправдание можно сказать, что ситуация была совершенно непонятная и противоречивая, любые свои действия могли и нанести вред. Так ушло время, пока 30 марта 1918-го по старому стилю большевистская охрана перед угрозой наступавшего из Сибири адмирала Колчака не перевела Романовых в Екатеринбург и не сдала местному Совету, потребовав подробную расписку.
За это и последующее время произошла масса паршивых событий. Во-первых, Временным правительством 1 сентября 1917-го года была образована Российская республика, которая учредила Совет пяти, в сущности, французскую Директорию. Об этом Спиридонову со всеми обстоятельными подробностями рассказал один из надёжных агентов в Петрограде. Теми пятью, пояснил он, были министры Временного во главе с Александром Фёдоровичем Керенским, вырастающим до диктатора. Они были настроены править железной рукой для утверждения Республики. Правда, Керенскому твёрдости так и не хватило, Совет просуществовал до 25 сентября, пока не образовалось уже третье, коалиционное, правительство. «Вот и оставался бы диктатором», – в сердцах пробормотал Спиридонов, отвернувшись от удивлённого взгляда агента.
Во-вторых, потом большевики совершили нахальный, пускай и не совсем незаконный, переворот – полномочия у правительства истекли. Захват власти был ещё хуже, чем непоследовательность Временных. Эта акция у здравомыслящих людей вызвала понятную тревогу, особенно если учитывать германо-большевистские связи, ни для кого не бывшие тайной. Но по порядку.
Вскоре после захвата власти большевиками второго ноября началось формирование Добровольческой армии в Новочеркасске, ядро которой составила группа Георгиевского полка, торжественно прибывшая уже шестого. Очень быстро эту армию окрестили «Белой». Видимо, тогда уже, из-за добровольцев, положение Романовых сильно осложнилось и становилось всё хуже и хуже. Довольно скоро несколько советских комиссаров, появившихся в Тобольске неизвестно по чьему полномочию, стали требовать передачи «граждан великих князей» в их распоряжение.
Впрочем, как бы в противовес, 12 ноября начались исторически долгожданные выборы в Учредительное собрание. 25-го они закончились в большинстве округов, в остальных – в декабре. Из избранных семиста с лишним депутатов большинство представили эсеров и другие демократические партии, четверть – большевиков, а кадеты и правые партии победили тринадцатью процентами депутатов. Собрание никак не могло собраться по формуле «пятьдесят процентов плюс один депутат», чтобы была возможность принимать решения. Словно бы что-то или кто-то мешал народным избранникам добраться до Таврического дворца в Петрограде и собрать кворум. Когда же они стали понемногу подтягиваться, большевистская фракция под одним из предлогов покинула Собрание. Разумеется, после нескольких вскриков и угрожающих телодвижений большевиков 6 января 1918-го года вышел Декрет Ленина о роспуске Учредительного собрания, якобы не торопящегося собирать новое правительство. Но все в России прекрасно знали, что депутаты явно не были настроены оставлять самосозданное правительство, а хотели сформировать пускай коалиционное, но своё. Недовольных роспуском большевики начали расстреливать прямо на улицах в нескольких городах России, и иногда вместе с семьями – для пущей острастки. Вот вам, наконец, и долгожданная революция!
И дальше понеслось… 3 марта подписан ужаснейший мирный договор с Германией. К этому всё и шло. Одновременно большевики, видимо, готовые одарить немцев Питером, перебрались в Москву, сделав её двенадцатого марта столицей. И уже в Москве, 24 марта, организовали в РКП (б) Венгерскую группу во граве с Бела Куном. Кого как, а Спиридонова этот факт поразил больше всего, когда натолкнул на очевидную мысль, что готовятся карательные акции, раз уж начались такие дружеские объятия с теми иностранцами, с которыми только что воевали. Не будет же русский солдат, какой бы он ни стал за всю продажную войну, так уж легко и, главное, регулярно стрелять в своих, православных. Вот и нашли таких…
Впрочем, подполковник Спиридонов отдавал должное Ленину – глава советского правительства намеревался провести открытый судебный процесс над низложенным монархом, где в качестве обвинителя уже был назначен Лев Троцкий. Но к тому времени уже началась Гражданская война. К Екатеринбургу рвались белые, а анархисты повсюду орали, что бывшего царя следует ликвидировать, дабы «не достался б никому». Уралоблсовет лихорадочно обменивался с Москвой шифрованными телеграммами, в которых настаивал на «решительном варианте». В Москве шли жаркие споры Ленина с главой государства Яковом Свердловым. «Именно всероссийский суд, и с публикацией в газетах!» – кипел гневом Ленин. – «Мы подсчитаем, какой людской и материальный урон нанёс самодержец стране за годы царствования. Николая Кровавого на суд народа!», – взывал Ленин.
Яков Михайлович не ругался, не спорил особенно-то, он о чём-то думал, чего-то выжидал. И, наконец, как следствие всего, исполком Уральского областного совета 16 июля 1918-го самостоятельно принял – вероятно, устное, – решение о расстреле, а в ночь на 17 июля узники подвала дома Ипатьева в центре Екатеринбурга были внезапно расстреляны – Николай, царица Александра Федоровна, их пятеро детей, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, несовершеннолетние Анастасия и цесаревич Алексей, а также несколько домочадцев: доктор Евгений Боткин, слуги Алексей Трупп, Иван Харитонов, Анна Демидова. Всего одиннадцать человек. Ни суда, ни следствия, как это повелось в новой России.
Президиум ВЦИК РСФСР тут же получил шифровку об исходе. И признал «правильными действия уральских товарищей». В выписке из протокола этого заседания шла речь исключительно о расстреле Николая Романова. Советская печать наутро торжественно объявила об этом. А семья его будто бы спрятана в «надёжном месте»…
Едучи в какой-то поддёвке в третьем классе поезда на Москву, Николай Васильевич кусал губы, вытирая глаза и небритые щёки, и говорил себе: «Наша беда в безупречном законопослушании. Император сделал это принципом, зато большевики показали нам, как надо действовать в крайнем положении. Корю себя за то, Господи, что не решился вовремя на активную операцию в Екатеринбурге, и даже ещё раньше, отсеяв колеблющихся. Нет оправдания! А ведь стал уже понимать, что такое большевики, с их общемировым апломбом, злобными вывертами, да довоенные настроения довлели. Непростительно! Безнадёжно!».
3.
Согласно месту проживания я должен был бы посещать школу на улице Льва Толстого. Это было огромное новое здание из серого силикатного кирпича, оно находилось через квартал по диагонали от нашей квартирки. Однако когда мы явились туда летом с дедом, нам сказала дежурная учительница с красной повязкой на руке, что ученики уже были набраны начиная с мая, принимались даже живущие в районе двадцать пятой, пятнадцатой и шестой школ. Почему? Так это же самые образцовые школы центральной части города.
Я ничего из этого разговора не понял, но меня обрадовала возможность попасть в 6-ю школу, находящуюся ближе других. Она стояла на самом красивом месте. С одной стороны противоположного квартала располагался штаб Приволжского военного округа, и с высокой его башни регулярно били боем часы. При этом командиры, идущие по тротуару, привычно задирали рукав гимнастёрки и сверяли свои наручные хронометры. Посередине же этого квартала стоял особнячок в окружении сада. Позднее, во время войны, в нём жил знаменитый тенор Козловский. Дед несколько раз в большом волнении ходил туда, надеясь, подобно романтически восторженному гимназисту, встретиться с Иваном Семёновичем. И один раз наконец повидал его, но издали, когда певец вышел из машины и пошёл к дому в сопровождении двух военных. Дед, придя домой, подробно рассказал мне про это, и вдруг расстроился до слёз. Его всегда неописуемо трогал голос Козловского по радио, а что же говорить про то, если бы довелось услышать вживую.
По диагонали через перекрёсток стоял особняк, увитый каменными и потрескавшимися цементными лилиями, его окружала ограда с коваными стеблями лилий. А за особняком высился кирпичный костёл, построенный ссыльными поляками. Если же выйти на угол здания школы, то внизу виднелась Волга с лесами и заливами на противоположном берегу.