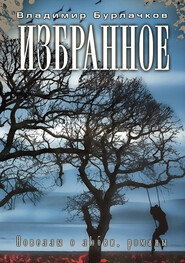По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
В мире событий и страстей
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это уж – всегда, – отозвался Саша.
– Всегда – не всегда, а вот… – Петровский расстегнул пальто и поправил шарф. – В России мерзостей всегда хватало. Но и желания им противостоять было достаточно. В этом-то и главное. Пошли, что ли? Я за вами потихонечку. Опять в боку колет.
Олег сел на пол у шкафа, сказал:
– Идите без меня. Неохота что-то…
– Чего неохота? – удивился Петровский.
– Всю эту свору видеть и руки перед ними вверх поднимать.
– А когда они сюда придут? – спросил Петровский.
– Пусть приходят.
– Я тоже… Мне туда не хочется, – проговорил Саша.
– Воля ваша. – Петровский сунул руки в карманы пальто. – А мне надо. Детей еще надо вырастить. Ну, все! – Он вышел, прикрыв за собой дверь.
Ударила автоматная очередь. Перемешалась со звоном разбитого стекла. Саша выглянул в коридор, вскрикнул:
– У лифта кто-то на полу! Петровский!
Пока выстрелов не было, они втащили тело в коридор.
– Жив! – вскрикнул Саша.
– Кажется, убит.
– Во, ё… – Саша выпрямился, посмотрел на Петровского: – И так вот…
Олег расстегнул на убитом пальто и пиджак, сунул руку во внутренний карман, еще теплый.
– Документов нет.
– Мы с ним в первые дни у костра сидели, – говорил Саша. – Он на Профсоюзной живет… Жил.
И все иное было на этом страшном белом свете уже без нее.
Десятка два парней неровным строем тяжело шлепали по мостовой, и кто-то спрашивал:
– Гриш, а на кой… ты эту железку с собой тащишь?
Парень смотрел на девушку в белой куртке, распластавшуюся на асфальте, сжимал в руке короткий арматурный прут и говорил:
– Ну, так, на память. Мне его на Тверской дали. Может, я буду внукам рассказывать, как Ельцина и демократию защищал.
Высокий моложавый генерал в полевой куртке и сапогах ходил быстрыми нескладными шагами по стриженой траве стадиона, вглядывался в лица схваченных баррикадников, свирепел от их ненависти к себе, от одной мысли, что вот есть они такие, сами для себя все решающие, выхватывал из шеренги одного за другим и приказывал увести. Смотрел, как уводили их к белеющему в темноте бетонному забору и брезгливо отворачивался, ожидая треск автоматной очереди. Увидит ли он потом, через много лет, угасающим своим разумом те полные ненависти глаза? Кто знает…
Два армейских газика подкатили к подъезду. Из первого выскочила охрана. Из второго вылез грузный военный в шинели. Из окна раздались крики. Военный остановился, посмотрел наверх, на зарево пожара под темнеющим небом, приказал коренастому подполковнику:
– Давай сюда ночью с пяток машин и черные мешки. И все с первых этажей к утру убрать.
– А сколько мешков?
– Ты чего? Ё… Я-то откуда знаю?
– Можно баржу подогнать с Южного порта.
– Это – твое дело. Только, чтоб через сутки ничего тут не было.
– Лучше бы сжечь, – сказал подполковник. – Бензину на первые этажи, да и всё.
– На кой? – не понял грузный военный.
– Может, тогда и сойдет.
– Чего? А кого боишься? Ты чего думаешь?.. Во, ё…
И стояли по окрестным улицам зеваки и глазели на медленно разрастающееся зарево пожара.
И выродки рода человечьего радовались людской боли, страданиям и смертям.
И то ли казалось, то ли вправду было: странные люди приплясывали на мостовой и вскидывали руки к пламенеющему над Москвой небу.
И стояли на пресненских улицах люди, притихшие и печальные, и смотрели, как лютовал пожар, как огонь выбился из оконных проемов и заскользил по стенам. Багряно-черное месиво устремилось ввысь, к темно-синему, звездному небу, грозилось вот-вот ударить его широкой кровяной лапой. Будто преисподняя вырвалась из бездны и возомнила, что может царствовать над человечьим миром.
Они сидели на полу, один напротив другого. За разбитым окном совсем стемнело. Все так же сильно несло гарью с дымящихся верхних этажей. Снизу доносились автоматные очереди.
– Я с собой своего товарища звал. – Саша повернулся и прижался плечом к стене. – А сейчас думаю: хорошо, что никто со мной не пошел. Вот, было бы дело! Но ты знаешь, просто так смотреть на все это… Хотя я всякого ожидал, но не такого. А ты почему сюда пришел?
– Ну, так, пришел… – Олег вдруг повысил голос: – Противно было, вот и пришел.
– А я думал: уж очень все у них подло как-то. Если придем, хоть что-то сможем изменить. Кто-то опять все за всех решить захотел. Но если одним можно все по своей воле перевернуть, почему другим потом нельзя будет? А те, кто в нас стреляет, они хоть о чем-то думают?
– Хрен их знает, чего они думают, – ответил Олег.
– Им всем пообещали, что демократия будет. Как Дом Советов сожгут, так и воцарится. А может – и еще проще. Сказали, что ничего им не будет. Вот и стреляют направо-налево. Ведь все разные такие. Один старушке буханку хлеба купит, другой – кошелек у нее отнимет. Вон, стариков ногами били! Ты тоже, небось, видел. А потом скажут, что они не по своей воле, что велели им.
Олег не ответил. Сидел, прикрыв глаза, и думал, что рано или поздно, в комнату войдут и крикнут: «Встать!». Будут смеяться в лицо и ударят прикладом. А может быть, просто вскинут автоматы. От неволи некуда было деться. Только встать и пойти туда, вниз, где бэтээры вокруг дома и столько людей с оружием.
Разрывы раздались один за другим. Где-то наверху блеснуло пламя. И вдруг разорвалось совсем рядом. Волна пронеслась по коридорам, ударила в полуприкрытую дверь, взметнула и рассыпала по комнате листы белой бумаги, скинула на пол цветочные горшки с книжной полки. И еще один разрыв. Опять хлопок двери и впивающаяся в ноздри и глаза, едкая пыль.
Наступила тишина. Но на полу и стенах так и остались отблески зарева на верхних этажах. Грохнуло еще раз. Стало ясно, что бьют со стороны стадиона. Из конца коридора донесся настырный, пульсирующий треск. Закипал пожар. Все кругом начало заполняться дымом. Огонь с нижних этажей двинулся к зареву наверху.
Стало трудно дышать. Олег и Саша пошли к лестнице. У лифта наткнулись на тело Петровского.
– А он? – спросил Саша.