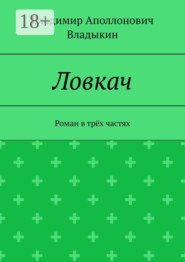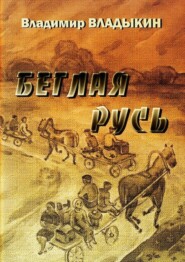По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Прощание навсегда
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вот такая печальная, удручающая сознание картина предстала мне, зрелому человеку, приехавшему погостить на родину. Теперь трудно представить, как некогда в клубе проходили концерты художественной самодеятельности как местных, так и заезжих артистов из соседних хуторов. Когда-то крутили здесь кино, устраивали новогодние вечера школьники и по случаю других праздников давали концерты силами учащихся для земляков. Даже проходили колхозные собрания и массовые гулянья на день урожая. Одним словом, плохо ли, хорошо ли, тем не менее клуб добросовестно исполнял отведённую ему роль поддержания на селе культуры…
Очень жаль, что история клуба, похоже, уже навсегда забыта. И недалеко то время, когда обвалится крыша, разрушатся стены, и останки безжалостно сметут в овраг. И ничто больше не напомнит грядущим поколениям, что на этом месте некогда был сельский очаг культуры…
А пока вокруг клуба шумят высокие пирамидальные тополя, им ещё здесь долго стоять – этой весёлой леваде, как бессменным стражникам и свидетелям нашего отшумевшего в Лету детства… И ещё через несколько лет то, что осталось от клуба было снесено, впрочем, нынче нет и самого колхозного двора, так как фермы, кузня, сараи и другие постройки были варварски снесены, а кирпич разобран и увезён. Стоит лишь кирпичный молочно-товарный комплекс, под плоской бетонной крышей, его никто не рискнёт без автокрана разобрать по кирпичику. Вот он пока единственный и стоит, как символ ушедшей советской эпохи…
А что новый клуб? Он, разумеется, довольно крепок, выложен из шлакоблока и его тоже обрамляют тополя, но они чуть моложе. Однако в клубе в годы перестройки изредка, раз в неделю, крутили фильмы, но только вечером. Много киномехаников познал он, Алик давно прочно осел в городе, а жив ли он нынче, кто теперь скажет? В последние годы кинофильмы возили из Аксая, когда тот в 1965 году стал нашим райцентром. Моя юность и молодость проходила в новом клубе.
Давно ушли в прошлое танцы, да и молодёжи осталось очень мало. В наше время тут было весело и шумно, на танцы съезжались даже из соседних посёлков, станиц и хуторов, устраивали концерты, собрания, новогодние ёлки, а от библиотеки, что находилась под одной крышей с клубом, уже ничего не осталось, книги растащили ретивые читатели. Правда, уже в новое время, один студенческий кооператив из города, всего сезон показывал видеофильмы из запретного когда-то репертуара.
И на эти сеансы сбегалась молодёжь со всей прилегающей к нашему посёлку округи. Как бы то ни было, однако, это уже далеко не то старое время, время моего детства, когда мы ждали кино поистине, как праздника для души. Ведь тогда ещё так не было в каждом доме распространено телевидение, как теперь и мы только-только открывали для себя окно в большой мир, приобщаясь к настоящей культуре.
Нынче клуб отремонтирован и, говорят, сдан в аренду для занятий восточными единоборствами, приезжающей из города молодёжи. Но что это за люди на иномарках, никто не знает, или только догадываются… И слава богу хоть в таком качестве кому-то приносит пользу клуб, превращённый в спортзал…
5. Отца увлекало радио
Мой отец, Платон Нестерович, в молодые годы увлекался прослушиванием радиоголосов. Ему было крайне интересно знать, что говорит о нашей стране радиостанции «Голос Америки» и «Свобода». Хотя у него никогда не было антисоветских настроений, от отца я не слышал отрицательных высказываний о советской власти. Одно время он был даже членом партии, но за неуплату членских взносов, как он объяснял, его исключили из рядов коммунистов, о чём нисколько не жалел.
Я полагаю, он нарочно так поступил, так как партия ему ничего не давала, которая была хорошей лазейкой во власть для карьеристов и проходимцев. Тогда как отец был всего-навсего рабочим. Причём зарплату он получал небольшую, поэтому решил вернуть деньги в семью, которые уходили на уплату членских взносов. О коммунистах отец отзывался по-разному, но высокого мнения о них у него не было. Он любил слушать новости, следил за событиями как в стране, так и за рубежом. Тем не менее в политике почти не разбирался. Зато был он, как сейчас говорят, фанатом радио. Поэтому подключал, выведенный на улицу, к радиоприёмнику громкоговоритель, установленный на карнизе причёлка хаты под самой крышей. И таким образом, этот динамик прямо-таки выкрикивал на всю нашу улицу, что происходило в столице на октябрьских и первомайских праздниках. Особое впечатление производил диктор Левитан, рассказывавший о военных парадах и демонстрациях, после которых передавали праздничные концерты.
Радио, включенное почти на весь день и на второй тоже, как бы олицетворяло народное гулянье, окрашивая его весельем и радостью, и когда отец на какой-то час-другой выключал радиоприёмник, на это время праздничное настроение несколько спадало. И как будто вся окружающая действительность, расцвеченная праздником, принимала самый заурядный и будничный вид. Однако стоило отцу вновь включить динамик, как всё буквально на глазах преображалось: и деревья, и дома, и улица, и люди. Я любил нарядных людей и сравнивал с ними себя. И ходил аккуратно, чтобы не запачкать новые брюки, рубашку и туфли, стряхивая с одежды то пыль, то соринки. Притом оберегая блестящую поверхность туфель от неосторожного движения при соприкосновении с дорожными неровностями и колдобинами. Мне почему-то очень хотелось, чтобы взрослые, мальчишки и девчонки, тоже были по праздничному одеты для усиления своих ощущений народного гулянья. Поэтому, если вдруг встречался человек не в новом или хотя бы приличном костюме, тогда мной это воспринималось как элементарное проявление бескультурья.
В детстве я ощущал неповторимость времени, а неудержимый бег дней очень хотелось удержать, что больше всего испытывал такое желание на праздники. Я бесконечно сожалел, что они так быстротечно проходили, оставляя после себя одни воспоминания. Я тщился усилием воли остановить мгновение, запечатлеть в душе каждую прожитую секунду. Но это – я понимал – невозможно было сделать, и уходивший первый день праздника становился источником переживаний только потому, что он больше не повторится.
И второй день, разумеется, уже не будет походить на первый. Словом, даже по такому ничтожному поводу, как смена одного дня другим, ничем уже не похожим на первый, поскольку события пойдут совершенно новые, одно это было вполне способно испортить тебе настроение. И это надо было признать без обиняков, не выдумывая никаких иллюзий. Но детское сердце почему-то не собиралось мириться с этим удручающим фактом, что в том виде каким был вчерашний день, он уже никогда-никогда не повторится, таков уж ход необратимого времени, неумолимо меняющим всё и вся.
И только в памяти сохранялись тоскливые ощущения пережитого накануне, будто я терял и расставался навсегда с нечто дорогим и несказанно любимым существом. И мне лишь оставалось вспоминать нарядных, возбуждённых гулянками, людей, сельскую нашу улицу, преображённую своим убранством, подбеленными деревьями, выметенными дворами и вывешенными флагами на домах местной «знати». И всё это вкупе создавало праздничное настроение.
Хотя красные флаги на домах порой рассматривались людьми в стремлении наших держиморд показать свою верность советской власти. А вслед за «знатью» это делали её приближённые. Ведь почему-то ни один рядовой колхозник не водружал на свою хату флаг, и для них ничего не менялось. Они также работали с ощущением, что никакого равенства не может быть, вместо чего продолжалось расслоение людей на богатых и бедных, которое у нас всегда замалчивалось. Сознавая, что расслоение общества двигалось по эволюционному пути, что социального равенства быть не может, я приходил к выводу, что идея социализма, по своей сущности не уловима, что коллективная собственность условна. Единственно, что умели делать устроители рая на земле, это устраивать праздники под надутые бравурные марши, которыми прикрывали всю срамоту тщетных усилий построения коммунизма.
Пустые лозунги и призывы, разбавленные весёлыми маршами, лившиеся по праздникам из динамиков на затурканные головы людей, зомбированных господствующей идеологией, властвовали над сознанием слепо поверивших простых миллионов людей…
Наш отец, подключавший на улицу динамик, словно был олицетворением власти, чтобы народ знал о проходивших в стране праздниках. И чересчур горластый динамик предавал нашему двору некое официальное значение. Видимо отец это сознавал, что его несколько возвышало над остальными посельчанами, а на его фоне, мы, его сыновья, тоже приобретали в глазах земляков значительный вес.
Хотя по своей натуре отец ни перед кем никогда не возносил себя, ему глубоко было чуждо чувство зазнайства. С людьми он как-то сходился легко и со всеми ладил. Правда, за свою простоту и доступность, из-за неумения, где надо схитрить, над ним норовили подшучивать и посмеиваться только потому, что отец никому не давал отпора. Хотя в крутом подпитии, он, бывало, неожиданно взрывался на своих обидчиков, как это однажды произошло на день Победа.
Отец всегда на праздник надевал костюм с боевыми фронтовыми наградами и наградами ветерана войны. И как-то его завистливые сверстники, бесстыдным образом стали не по существу придираться, что якобы награды отец не заслужил на ратном поле, а снял с убитых в боях товарищей. Этот наглый, бесцеремонный и оскорбляющий достоинство наговор недругов сильно задевал отца-фронтовика за живое, отчего он стал неистово доказывать обидчикам, как и где он заслужил медали и ордена.
А что касалось нас, его детей, то мы никогда не сомневались, что он действительно честно заслужил боевые награды, исполнив с честью воинский долг. Причём я неоднократно слышал от отца, сколько лиха он хватанул на войне, в каких участвовал боевых операциях, служа в разведке, одна из которых завершилась захватом немецкого штаба со всеми секретными бумагами, а также пленением немецкого генерала, за что отец был награждён орденом Славы. Только жаль, что в этом повествовании, я не ставил цель рассказать обо всех боях и операциях, в каких довелось ему участвовать, но о чём идёт речь в моём большом романе «Страшные дни войны», который завершает цикл книг хроники народной жизни…
Ещё с военной поры отец привык носить гимнастёрку, он годами мог не расставаться со старыми вещами. У него был личный металлический шкаф для хранения всевозможного инструмента и электроматериалов. Никто посторонний в него не мог проникнуть, так как шкаф находился под неусыпной охраной замка. При всей своей рачительности, отец отличался педантичной аккуратностью, и где попало не оставлял свой инструмент. Все его вещи находились на отведенном им месте, и в шкафу всегда был идеальный порядок.
Свой велосипед, на котором он много лет ездил на работу до поздней осени, содержал в идеальной чистоте, а весь его механизм был отлажен, как часики. Нам было бесполезно просить покататься, так как отец боялся, чтобы мы его не сломали. Впрочем, на его милость в трезвом виде мы никогда не рассчитывали.
Но совсем другое дело, когда он приезжал с работы выпившим, тогда отец становился безгранично добрым, и этим мы всегда пользовались, охваченные безудержной радостью, что теперь мы можем весь вечер кататься на велосипеде по очереди. Хотя плохо ещё держали равновесие, еле доставая до педалей, ерзая по раме, как альпинисты по скале. Но мы знали, что нам нельзя с него па-дать, так как могли согнуть руль или педаль; и когда это происходило, отец выходил из себя. В следующий раз можно было уже не просить велосипед, так как следовал категорический отказ…
Помню, был у нас старый механический патефон, заводившийся блестящей никелированной ручкой, с такими же металлическими застежками на футляре. Бывало, заведешь его, как шарманку, и в трепетном ожидании поставишь головку звукоснимателя, похожую своей формой на крупную луковицу, на черный диск пластмассовой пластинки, и под баян или народные инструменты запоёт женский и мужской хор. Или под заливистую гармонику выкрикивала частушки звонкоголосая Мария Мордасова, и были пластинки с песнями Клавдии Шульженко, Леонида Утёсова. И опять-таки, без разрешения отца мы не могли притронуться к патефону, чтобы послушать музыку и песни, тогда ничего нам не говоривших певцов; в такой вечер я мог подолгу торчать возле патефона, не уступая его братьям под убедительным доводом отца, что я бережливей, чем они, что кто-то из них может его ненароком повредить и тогда нам его больше не видать, как собственных ушей. И они начинали верить, что лучше меня никто из них не может обращаться с патефоном. Мне нравилось сменять иголки в головке звукоснимателя, хранившиеся в округлой выдвижной коробочке, встроенной на закругленной поверхности патефона в специальной ячейке, из которой она выходила лёгким нажатием пальца, напоминавшая собой раскрытый веер.
К моему безраздельному лидерству братья уже настолько привыкли, что нисколько, как попервости, на это не роптали. Но иногда вспыхивали ссоры из-за пластинок, которых у нас было довольно много – десятка три. И каждый норовил послушать ту, которая нравилась больше всего. В наш шумный, неуступчивый спор всегда вмешивалась мама, устанавливала очередность в прослушивании пластинок, чтобы мы придерживались справедливости.
Был у нас проигрыватель электрический, подключавшийся к сети через радиоприёмник, которым мы стали пользоваться только значительно позже. Вся эта, теперь допотопная аппаратура, стояла в святом углу на тумбочке, где под самым потолком всё ещё висели иконы, которые мы позже с ними и отправим пылиться на чердак, как пережиток прошлого, под давлением господствующего тогда атеизма.
Итак, эту драгоценную для той поры аппаратуру, отец привёз в один прекрасный день из города, где её вместе с пластинками кто-то ему продал вполне по сносной цене. А до этого долгое время до начала «электрической эры» слушали колхозное радио из чёрной тарелки, висевшей на стене. И вот с появлением радиоприёмника, подключавшегося к электросети, оно тотчас утратило своё былое значение и мы его сняли, во многих местах продырявленное нашими любопытствующими пальцами, которые мы совали всюду, куда не просят, за что и получали от дедушки и родителей многочисленные взбучки.
Но в этом больше отличались мы с Никиткой, тогда как Глебка никогда с нами в шкоде не участвовал, и вовсе не потому, что был неизменным любимцем дедушки, просто он вёл себя как умудрённый жизнью старичок. Глебушка помогал дедушке сворачивать самокрутки, сохранять свежие газеты от нашего варварского уничтожения на пилотки, самолёты и корабли, зашнуровывал ему туфли или парусиновые чувяки, облегчая однорукому человеку повседневные заботы, в то время как мы могли стащить у него табак по просьбе больших пацанов, за что нам тоже влетало.
К нашим проделкам, конечно, неумышленно, подсоединялся отец, когда включал громко радиоприёмник и не слышал, как дедушка выходил из себя из-за того, что отец не проявлял элементарного уважения к близким. А маме приходилось приструнивать своего невежественного мужа, проявлявшего невозмутимое спокойствие, когда дедушка просил отца убавить звук. А тот знай себе полеживал на кровати, положив ноги на спинку, словно его ничто не касалось.
Но когда дедушка пребывал в добродушном настроении, он тоже был не прочь послушать новости, чтобы при этом не столь громко звучал радиоприёмник, чем отец совершенно пренебрегал, не уважая тестя, который просил дочь, чтобы зять немедленно убавил звук. Маме тоже надоедал горластый радиоприёмник, и она без предупреждения сама убавляла громкость. Но стоило любимцу отца умолкнуть, как он, словно ужаленный, вскакивал с кровати и с бранью набрасывался на маму, посмевшую сунуться в его владения. И тогда между родителями вспыхивала душераздирающая перебранка.
Я всегда поражался невежеству отца, напрочь лишённого чувства такта и уважения других членов семьи. Я целиком разделял стремление мамы образумить отца. Разве могут дети стать воспитанными, если в семье между родителями нет взаимопонимания. Ведь неэтичное поведение отца могло передаваться детям. И она разъясняла нам, как лучше всего вести себя, если рядом находятся другие люди, чтобы им не был причинён ни моральный, ни материальный, ни физический урон, в силу каких-то необдуманных действий. Но кто мог заранее предугадать, к чему может привести дурной поступок. Ведь мы сперва делаем, а потом только спохватываемся, что поступили скверно. Вот поэтому безалаберные поступки отца в какой-то мере влияли на наше воспитание отрицательно.
Мы, как губка, впитывали его привычки и пристрастия, даже сами того не подозревая. И, как ржавчиной, попавшей на металл, разъедал наши ещё не окрепшие души. Хотя я был не склонен подражать отцу, так как его манеры во мне всегда вызывали стойкое отвращение, и потому в своих поступках я руководствовался действиями мамы, потому как она была для меня непререкаемым авторитетом. Если она бранилась с отцом, я понимал, что он заслуживал справедливого порицания, а значит, ни в коем случае мне нельзя ему подражать. Поэтому на меня и старшего брата отец влиял своим поведением во многом лишь косвенно, чего, собственно, не скажешь о Никитке, которого притягивало к отцу, как металл к магниту. Он чаще, чем я, просил у него денег на школьные обеды. Впрочем, отец в свой черёд как бы потворствовал Никитке, потакая его страстям, он находил в нём как бы своё зеркальное отражение, что облегчало им понимать друг друга…
Одним словом, привязанность отца к радио сохранилась на протяжении всей его жизни. Он любил слушать новости, постановки, концерты, никогда не читавший ни книг, ни газет, и радио для него было единственным источником информации. И в значительной мере сокращало время для ознакомления с текущими событиями как в стране, так и за рубежом, для чего не обязательно было затрачивать энергию на чтение газет, не напрягать своё зрение, которое, кстати, у него было слабым с молодости. В последние годы жизни, отец не расставался с телефонным наушником, которым пользовался как минирадиом. После ночного дежурства в хозяйстве соседнего посёлка Верхний, приходя домой, он укладывался на диване, подкладывал под ухо наушник и слушал пока не засыпал.
Когда отца дома не было, наушник лежал на подоконнике, от которого тянулись два проводка. Один служил антенным контуром, крепившимся к оконному карнизу, державшему штору и гардину защипками. Второй тянулся к розетке, одно гнездо которой служило наушнику источником питания. И вот наушник остался лежать безмолвно на своем обычном месте после того, как отец скоропостижно умер, опившись, видно, некачественным самогоном. Но эту свою версию я изложил в романе «Чужой».
Тогда, только погостив у родителей со своей женой, после Нового года я был вызван телеграммой на похороны отца и видел, оставленный им на подоконнике наушник, который как бы говорил, что он по-прежнему жив, только уехал по своим неотложным делам в город, куда раз в неделю ездил за пайковыми продуктами в магазин, который обслуживал ветеранов войны. И вот скоро он должен вернуться, впрочем, после обеда, и потом как обычно займёт своё прежнее место на диване.
Казалось, и впрямь наушник ожидал своего хозяина, и я со щемящей болью в сердце, с застывшими на глазах слезами, держал этот наушник в руках, не прикладывая к уху, точно опасался нарушить нечто священное, только по праву относящееся к отцу и наушнику…
Я не стал убирать его с подоконника, не захотел прерывать привычный ход вещей, как он сложился при хозяине. Тем более, в тот момент мне всё время казалось, вот сейчас распахнётся из коридора в хату дверь, щёлкнет знакомый с детства замочный ролик о металлическую планку створа, войдёт несколько валким шагом отец, поставит около печи свои туфли, как это он всегда проделывал, и с кружкой горячего чая в руке, только что пришедший из кухни, пройдёт не спеша к дивану, постоит, задумчиво отхлебнёт из неё горячей пахучей жидкости с блаженным удовлетворением, облегчённо вздохнёт, затем поставит кружку на окно, а следом возьмёт с него наушник, и удобно уляжется на старый диван-кровать, поскрипывающий пружинами и подъёмным механизмом, как расстроенное пианино…
Однако, зная теперь твёрдо, что отныне он этих, привычных движений уже больше никогда не проделает, не будет слушать по наушнику любимые новости и другие передачи, на душе у меня становилось неизбывно больно и печально, что скорбь моя по нём продлится, наверное, вечно. И стоя в тупой неподвижности, сознавая это, я спрашивал: зачем смерть посмела прийти так непрошено рано? Ведь отец ещё хотел и надеялся жить до отведённого ему срока… Но, оказалось, он проморгал нелепую смерть, последовавшую, быть может, от плохого самогона, не рассчитавший свои возможности в преклонном возрасте. Жаль, он не задался вовремя вопросом, а стоит ли, не пора ли остановиться и оглядеться, что там было позади и что ожидает впереди после лишнего стакана? Нет, увы, этого не произошло, и беды нельзя было миновать, ведь русскому человеку всегда кажется, что ещё не всё выпил, ещё есть время в запасе. Но стрелки часов кто-то незримо перевёл…
И ещё какое-то время держал на ладони наушник, я снова погружался мысленно туда, где было наше детство, и был отец.
6. Первый порог знаний
В шестилетнем возрасте я уже сознавал, что существую, и тогда это переживалось мною по-своему таинственно и неповторимо. Я думал: где же я был до того, как обрёл физическую оболочку? И как бы я ни спрашивал у себя, никак не мог постичь: где же я обитал, прежде чем прийти в этот загадочный мир? Иногда мне казалось, что я существовал всегда, но только не знал, что действительно существую… Но в точности это было известно только Богу…
И всё равно хотелось верить своим представлениям о себе, что ты как будто бы не единожды был на этом свете и с этим ощущением я жил дальше. Наибольше это проявлялось, когда что-то в моей жизни происходило и мне казалось, что когда-то это же самое со мной уже случалось, но никак не мог вспомнить когда именно. И ещё острей представлялось, что с тобой рядом есть нечто такое, что тебе не дано постичь и оно напоминает о себе как бы дразнит, дескать, только попробуй узнать и тебе станет не интересно жить…
В те дни жаркого и сухого лета, когда мама водила Глебку в город проходить медкомиссию, в связи с этим он поневоле становился центром родительского внимания. А мы были как бы оставлены на второй план, словно на время всеми брошены на произвол судьбы, о чём мы с Никиткой, однако, вовсе не кручинились, не высказывали своих кровных обид. Да и были ли они, когда нам по-своему тоже было интересно взирать со стороны на Глебушку, особенно в тот день, когда мама купила ему новую форму, от которой исходил восхитительный запах фабричного сукна. До этого, наверное, кряду несколько дней мама уходила с ним в город, а мы, предоставленные сами себе, безмерно радовались свободе, убегали с друзьями в дальнюю лесополосу Соколовку разорять сорочиные гнёзда…
Помню, однажды брат нёс в руке кожаный портфель со всеми для него принадлежностями: пеналом, ручками, карандашами, букварем, помню, так же, как брат в первый раз надел школьную форму, сшитую из тёмно-синего сукна, состоявшую в то время из гимнастёрки с металлическими пуговицами и прямых широких брюк. Само собой разумеется, гимнастёрка подпоясывалась кожаным ремнём с никелированной бляхой. Венчала форму фуражка с кокардой и чёрные блестящие ботинки шли как бы дополнением. Словом, сама форма сидела на брате мешковато, поскольку мама покупала её с расчётом на вырост. Поэтому брюки ею были заведомо подшиты, правда, рукава гимнастёрки лишь подворачивались аккуратно. И брат в ней выглядел нескладным увальнем, что объяснялось материально стеснённым положением семьи. Не могли же нам родители каждый год покупать новую форму. Впрочем, так поступали все родители, и сверстники брата, которые с ним в тот год пошли в школу, тоже выглядели не лучше, то есть форма хоть сама по себе была новая, однако, сидела на первоклашках совершенно не подогнанной, как на огородном пугале…
Зато запах сукна во всех отношениях был очень приятен, он вызывал собой какую-то неизъяснимую до головокружения радость, а её нежный, бархатный ворс, как шерстка мышки вызывал созерцательное удовольствие.
Я гордился, что брат скоро пойдёт в школу, и оттого представлялся, чуть ли не взрослым, ставшим как будто на голову выше, и заметно отдалился от меня, хотя он был напрочь лишён какого-либо зазнайства, поскольку по-прежнему оставался застенчивым и тихим. Когда мама откровенно начинала им любоваться, одетым в новую форму, Глебушка как-то смущённо, одними уголками губ улыбался, и то сужал их, то несколько расширял, как будто что-то нашёптывал ими.
Ему, очевидно, тоже нравилось быть облачённым в школьную форму, но вслух это боялся высказать. Конечно, мы тогда не могли осознавать, каких усилий стоило маме скопить денег на форму, портфель и учебники старшему сыну. Конечно, без помощи дедушки Петра Тимофеевича тут не обошлось, он всегда вносил свои сбережения в общий семейный бюджет. Да и как тут не помочь, ведь старший внук был его любимцем. И поддержка дедушки постоянно выручала из нужды…
Наша обстановка тогда ещё в новой хате была весьма и весьма скромной. Железные с мягкими сетками кровати, на фигурных спинках которых висели белые с выбитыми узорами занавески, большой чёрный сундук, в будни покрытый вишнёвой бархатной скатертью, а по праздникам – голубой, расписанной причудливыми рисунками и с длинной бахромой. У нас тогда пока ещё не было шифоньера, на который, однако, дедушка откладывал с пенсии деньги.
В простенке между окон, выходившими на улицу, стоял квадратной формы стол, на святой угол расположилась тумбочка, содержавшая в себе личные принадлежности отца: документы, батарейки для карманного фонарика, в стеклянном пузырьке резиновый клей, бритвенные лезвия, прибор для бритья, отвёртки, пассатижи, напильник, молоток, железные коробочки из-под чая, в которых хранились мелкие сапожные гвоздики, шурупчики, гаечки, шайбочки, граверы. И даже маленькая иконка, разные лекарства. Словом, тумбочка для нас была недоступна, потому что закрывалась врезным замочком.
На подоконниках стояли горшочки с цветами, на тумбочке в большом горшке росла с крупными листьями роза. Но мама очень любила цветы, придававшие зимой горницам летний вид. В этой главе я вернулся в доэлектрическую пору, когда в посёлке только-только начали поговаривать об этом, и только весной приступили к делу.