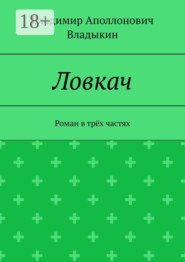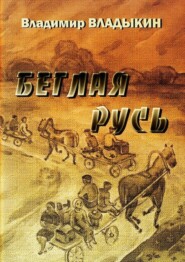По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Прощание навсегда
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Если о Веронике Снегирёвой я уже кое-что замолвил, то о дочери дяди Власа Галине, пока ещё нечего говорить, поскольку она была на полгода старше нашей Нади и качалась в колыбели.
Вообще-то, в нашем посёлке очень многие были переплетены между собой тесными родственными узами. В далёкие годы коллективизации, основатели посёлка Киров, гонимые голодом переселенцы, которые имели помногу детей, снимались с насиженных предками мест малой родины в поисках лучшей доли. Одним из них был наш дедушка Пётр Тимофеевич Снегирёв. Об этом периоде обстоятельно рассказывается в авторском цикле романов о народной жизни, который начинается «Разорёнными». И вот взрослые дети переселенцев обзаводились своими семьями, отделялись от родителей, строили хаты, тем самым составив, выражаясь современным языком, родовые кланы. Поэтому все посельчане тем или иным образом между собой переплетены родственными узами.
Вот и наши дядья, мамины родные братья, некогда жили вместе, но стоило им жениться, как они оставили родной очаг, построили хаты, и стали жить отдельно. Средний брат дядя Митяй женился ещё до того, как его сестра Зина вышла замуж, хотя можно сказать, что брат и сестра обзавелись семьями в один год, если не считать разницы в несколько месяцев. В то время как младший брат мамы Влас проходил службу в армии на Дальнем Востоке. Стоит упомянуть и о старшем дяде Сергее, погибшем на войне под Смоленском в 1943 году. О нём мне было известно от мамы лишь одно, что он отличался живым весёлым, находчивым умом, плотничал, столярничал. Так сделанный его руками скворечник просуществовал у нас, на одной из акаций, до моих зрелых лет. Правда, мы его не раз ремонтировали. Дядя Сергей, кроме столярничания, ещё умел неплохо рисовать, так что из него мог вполне получиться токовый художник.
И вот мои дядья, отделившись от родителей, построили хаты, став самостоятельными и в какой-то мере даже чужими. Словом, посёлок разрастался за счёт своей же молодёжи, отделявшейся от родителей, чтобы создать свои семейные гнезда…
Особенно большие родовые ветви из братьев и сестёр составляли: Косолаповы, Москалёвы, Находкины, Козловы, Серковы, Куравины, Дёмины, Волошины, Овечкины, Тереховы, но всех не перечислишь, поскольку сёстры меняли девичьи фамилии на мужние, как наша мама. В девичестве была Снегирёва, а стала Волошина, и таких фамилий в посёлке было несколько, считая родственников отца Глеба и Никифора, у которых в свой черёд было у одного – трое, у другого пятеро детей. Между прочим, в то время иметь много детей считалось вполне закономерным явлением, несмотря на постоянную нужду почти в каждой семье. Вот поэтому в небольшом посёлке насчитывалось много детей, подростков, составивших потом нашу молодёжь, когда на танцы в шестидесятые годы в клубе собиралось до полсотни человек. Хотя нельзя забывать и то, что послевоенный всплеск рождаемости объясняется не только тем, что наша страна в войну потеряла почти тридцать миллионов человек, а ещё и тем, что «отец народов» запретил аборты…
3. На большой воде
В конце пятидесятых годов ХХ столетия, в нашей балке пруда ещё не было, и по дну её тёк сокрытый в зарослях бурьяна извилистый узкий ручей, который мы много раз перепруживали, вооружаясь, принесёнными из домов лопатами, чтобы образовался хоть какой водоём, где в знойные летние дни обыкновенно купались, спасаясь от нещадной жары. Правда, вода собиралась грязная и мутная, она даже как надо не успевала отстояться, как мы на радостях, гордые от своего творения, начинали в ней бултыхаться. А по подбородку и груди стекали чёрные разводы грязи. Наш прудик долго не держался, его жиденькую плотину постепенно размывало переливавшейся через верх водой. И тогда мы начинали с прежним рвением забрасывать землей, образовавшуюся в плотине брешь…
В ту пору я ещё не бывал далеко от посёлка, и в своей жизни пока не видел настоящей реки, настоящего озера или пруда, хотя был уже немало наслышан о существовании последнего, находившегося примерно в трёх километрах от посёлка. Наверное, в то, первое лето, моих школьных каникул, впрочем, может быть, даже годом раньше, когда я ещё в школу не ходил, и точно не помню, когда это произошло, что мой отец вместе с соседом дядькой Веней возили нас, своих отпрысков, на пруд на велосипедах, которые тогда являлись для многих людей самым доступным видом транспорта, таковым он, пожалуй, останется на все времена. Разве что в техническом отношении будут усовершенствованы.
Итак, при виде большого изгибающегося широкого пруда, кое-где к зелёным берегам подступали заросли кустов, у меня навсегда осталось сильное, неизгладимое впечатление, впечатление оторопи, растерянности и даже страха, только от одного того, что я лицезрел перед собой серебристую, колыхающуюся иссиня-зеленоватыми гребешками кудреватых волн огромную водную поверхность, обильно поросшую у берегов высоким зелёным чаканом и камышом, в зарослях которых шумел как-то таинственно ветер. И от самой живой плоти воды, для моего ещё не окрепшего сознания, исходила некая опасность.
Я инстинктивно чувствовал, как от воды веяло настороженной, подстерегавшей свою жертву, угрозой, и одновременно доверчиво влекшей к себе. Но приходила догадливая мысль: вот стоит мне окунуться в её леденящую пучину, как она тут же поглотит меня. И, предостерегаемый инстинктом самосохранения, я держался от крутого берега подальше, боясь ненароком свалиться в воду, в то время как отец и сосед, будучи оба навеселе, разделись, побросав одежду на шелковистую зелёную траву, и что-то суматошно крича, прыгнули в воду, подымая блестящие тучи брызг. А мы с Лёней сидели на берегу, подминая собой свежую, прохладную траву, наблюдая с гордостью и страхом, как наши отчаянные папаши резво поплыли на перегонки к противоположному берегу. И чем дальше они уплывали, тем я отчётливей испытывал жутковатое чувство, оставленного отцом на произвол судьбы.
Видимо, они вспомнили о нас и тотчас повернули назад, к нашему берету, словно вспугнутые вдруг неким подводным чудовищем, причём я очень боялся, как бы отец не утонул. Хотя эта мысль ко мне пришла мимолётно, поскольку я был почти уверен, что с отцом, сильным, отважным, ничто не случится; он всё может, и при случае непредвиденной опасности, легко преодолеет возникшую угрозу его жизни. Ведь недаром он был на фронте…
Моё первая поездка на пруд состоялась не в самом разгаре дня, а уже ближе к вечеру, когда солнце, ярко сияя своим ликом, стояло довольно высоко, и ещё ощутимо пригревало. А потом оно неожиданно спряталось за тучей, и как-то резко потянуло прохладой, но вскоре стало тихо, и солнце долго не показывалось, и с неба на землю цедилась мерная серо-матовая прозрачность. И вот когда наши отцы вылезли из воды, в мокрых чёрных трусах, и с них стекала прозрачными каплями вода на зелёный берег, они тотчас живо приказали нам раздеться, решив нас искупать. В частности, я тогда не мог себе представить, как отец это осмелиться сделать на глубине, так как возле самого берега ему было выше, чем по пояс, а мне тем более будет с головой. Однако несмотря на свои несказанные недоумения, я всецело положился на отца, доверившись его благоразумию, что он сделает всё толково, чтобы я не испытал страха перед ужасающей мое воображение глубиной пруда.
И впрямь отец довольно легко поднял меня на руки, как младенца, велев руками держаться за его крепкую шею. При этом видимо переусердствовал, поскольку отец гортанно громозвучно и сердито выкрикнул, с оттенком паники и отчаяния, что, дескать, я так могу ненароком его задушить, инстинктивно сжав свои руки на его шее мёртвой хваткой. И тогда я, убоявшись худшего, невольно расслабился и немного отстранился от ещё мокрого, и вместе с тем горячего тела отца, при его медленном вхождении в воду, избрав для этого более пологое место, где вода доходила уровня берега. И глубина была не так опасна.
И вот с ощущением жуткой оторопи, вдруг вновь овладевшей мной с нарастающей силой, я почувствовал прикосновение к своему телу прохладной воды, отчего непроизвольно вздрогнул, инстинктивно прижавшись к отцу так сильно, словно взаправду сросся с ним, точно сиамские близнецы, в одно целое. На этот раз он почему-то не убоялся, что я его придушу, напротив, довольно весело рассмеялся, ободряя меня так, точно ему доставлял неимоверное удовольствие мой панический страх. Хотя тон отца был вовсе не лишён этакого озорного любования моим трепетным испугом, что только ему придавало дополнительной смелости в принятом им неожиданном решении приучить меня к глубине, чтобы на большой воде я обрёл уверенность и выносливость. Однако до этого было ещё очень далеко, перед лицом вполне реальной опасности, когда мы погрузились в воду настолько, что над её блескучей, колыхающейся поверхностью, уже торчала одна моя голова, и я неистово, поддавшись безумной панике, заголосил. И мгновение спустя, совершенно напрочь лишился самообладания, когда отец вдруг окунул меня с головой в воду, как при крещении в купели, и тут же, правда, извлёк из погибельной пучины, поглощённой мраком, что я поднял истошный вопль. Меня стала трясти дрожь с ощущением ледяного холода. Ведь дело было, как я говорил, перед вечером, солнце уже едва светило из-за наплывших неплотных облаков.
Между тем соседский пацан вёл себя на руках своего отца спокойней и уверенней меня, однако, тоже выказывал немалый страх, что-то быстро бормоча ему, когда очутился в моем положении, то есть в воде. Видимо, первое время он хотел передо мной выказать себя, намного храбрей меня, правда, его отец входил в воду не столь решительно и каверзно, как это с ходу сделал мой. Дядька Веня окунался достаточно неспешно, выжидательно осторожно при этом что-то наговаривая своему отпрыску успокаивающим тоном, как бы уговаривал сына не бояться. И такое обращение на Лёньку подействовало благотворно.
Не помню, сколько времени мы пробыли на пруду, но это первое своё крещение на «большой воде», оставившее неизгладимый след, я потом часто вспоминал. На этот пруд, который называли большим, я попал, когда стал постарше. Помню, мой тёзка Миша Волошин со своим старшим братом Алексеем позвали меня, и мы пришли сюда рыбачить. Примостились среди камышей, закинули удочки, но ловились одни окуни, редко попадались сазаны или лещи. А потом уже в отрочестве на велосипедах регулярно прикатывали купаться, куда съезжалась отдыхать вся молодёжь из соседнего посёлка Верхний. Но эти воспоминания приберегу для другого раза, так как на том пруду у некоторых больших ребят начинались романы с девушками, на которых потом они женились. Одна пара так и проситься в отдельную повесть, а потому ей тут не место…
Итак, этот пруд, который позже стали называть озером Рица (не только за размер, но и чистую воду), для нас стал постоянным местом отдыха на многие годы, пока его не использовали для орошения колхозных полей. Не знаю, подняли ли урожайность, а вот пруд, из которого каждое лето двумя мощными дизельными насосами выкачивали до дна воду, совсем обмелел, и его затянуло илом. И он утратил свою величавую прежнюю красоту, превратившись в подобие болота: берега обвалились, камыши засохли. Потом его чистили, углубляли, тем самым изменили русло, два знаменитых полуострова, на которых были пляжи, исчезли, камыши росли плохо, и от былой красоты ничего не осталось…
Однако плавать мы, вся поселковая детвора, выучились в основном в запруде, где всего-то нам было по пояс. И, наверное, илу, грязи тоже там было не меньше, правда, от которого мы как могли, очищали дно до самого твёрдого клейкого основания, чего, конечно, досконально сделать нам не удавалось.
После такого купания родители нас называли не иначе, как лягушатниками. И впрямь, глядя друг на друга, вылезая из чёрного водоёма, мы злорадно смеялись, тыча пальцами в товарищей, видя как на подбородках оставались грязные плохо смываемые разводы, не говоря уже о волосах и теле. Обмываться приходилось только дома в наполненном заранее водой корыте, выставленном специально на солнце для нагрева. И по очереди ополаскивались, причём на перебой друг другу делились перед мамой своими новыми успехами в овладении искусством пловцов…
4. Возвращение и смерть беглеца
Соседи Рекуновы второе лето строили дом, собственно, к тому времени он уже давно стоял с двускатной шиферной крышей, и уже изнутри полным ходом шла его отделка, для чего приглашались, как их родственники, так и чужие люди.
Нашего отца, Платона Нестеровича, дядька Веня позвал в дом провести электропроводку под штукатурку. И пока он это делал, мы на дворе Рекуновых, как бы ради такого случая, играли в жмурки. Помню, я легко обхитрил Лёню, прячась от него, забежал в сумрачный дом, где уже были вставлены в рамах стекла и где так остро пахло пресным глиняным замесом с добавкой в него мелкой соломы, а также свежеструганными сосновыми досками, только что настеленными на полы.
Именно дядька Веня и каменщик, и плотник, и жестянщик на бравурной весёлой ноте, своего грубого хрипловатого голоса, решительно зазвал меня схорониться за печкой, которую недавно он сам сложил из красного кирпича, и она ещё даже не была оштукатурена. Ободренный его дружеским содействием, я быстро шмыгнул в расщелину, за припечек, где обыкновенно производится сушка дров и сырой одежды.
Лёнька вбежал в переднюю комнату и тотчас быстро спросил у своего отца, не забегал ли сюда Мишка, на что родитель ему живо предложил поискать, явно посулив сыну намек на везение, если проявит в поиске смекалку. И тот моментально воспользовался прозрачным намёком своего отца. Однако, учуяв подвох, как бы нарочно заманутого в подстроенную ловушку, я загодя, чтобы только опередить его приближение, неожиданно выскочил из своего убежища, чего тот конечно не ожидал, и тотчас на время растерялся. А я же, воспользовавшись его замешательством, что есть духу стремительно, полный рвения победить, выбежал на двор из дома. И за собой услышал, как отец Лёньки раскатисто-громко рассмеялся, видно, глядя на оплошность сыночка, снисходительно веселясь над впавшим в конфуз Лёнькой.
Надо сказать, он рос довольно послушным; и будучи у своих родителей единственным, видимо, из-за этого донельзя страдал, испытывая определенные затруднения при общении с нами, казавшимися в его воображении счастливчиками оттого, что нас было трое. Бывало, зимними вечерами баба Пелагея брала за руку внука Лёньку и приходила к нам скоротать время, и всякий раз объясняла маме причину визита тем, что Лёне, дескать, одному довольно скучно высиживать вечера до сна, и ему хотелось поиграть с нами. Разумеется, бабкин довод был для нас вполне убедителен, мы его принимали, и он вступал в наши игры как-то несколько стеснительно. Самой же бабке Пелагее тоже хотелось почесать языком, она слыла большой любительнице перетолковывать уличные сплетни и просто вести досужие разговоры.
Наша мама никогда не сидевшая без работы, этим временем перебирала шерсть. И за таким не хитрым занятием она слушала бабу Пелагею, рассказывавшую ей какие-нибудь поселковые новости или сплетни: кто-то жене изменил, кто-то подрался, кто-то проворовался. Сама же мама говорила мало, лишь в тех случаях, когда ей крайне не нравилось то, о чём с таким интересом трезвонила ей старая соседка, с несколько рябоватым лицом. И тогда мама подвергала резкой критике услышанное от неё, потому как нередко баба Пелагея перевирала на свой лад различные слухи для пущей убедительности, чтобы поразить маму тем или иным искаженным ею событием. Мама уже достаточно изучила уловки бабы Пелагеи и поэтому выслушивала ту недоверчиво, причём с неохотой, изредка со скрываемой неприязнью посматривая на соседку, чинно лузгавшей жаренные подсолнечные семечки, от которых в натопленной горнице стоял запах перекипевшего подсолнечного масла.
Между прочим, неприязнь мамы к бабе Пелагее была давней, застарелой, собственно, относившейся ещё к той поре, когда была жива наша бабушка Маша, которая отличалась тихонравным, покладистым, рассудительным характером. Она также была принципиально честная, не любила всех тех, кто, злостно приспособлялся, кто двоедушничал, праздно болтал и распространял лживые слухи. В общем, между двумя соседками время от времени вспыхивали ссоры в основном после услышанного бабой Машей от нагловатой бабы Пелагеи оговора, что её родной брат Егор был кулак, и они, Снегирёвы, убежали от раскулачивания…
Однако сварливая соседка очень рано стала страдать болезнью ног, на которых у неё вечно не заживали какие-то раны, покрытые струпьями. Ходила она, насколько я помню, всегда с деревянной клюкой, немного прихрамывая. Своего мужа она потеряла на войне, впрочем, как и другая соседка баба Натаха Волоскова. От их же дочерей вскоре уйдут мужья, о чём я обстоятельней упомяну ниже.
В отличие от своих соседок наша мама жила с мужем, каким бы он ни был. Правда, один раз, о чём в своём месте говорилось, он тоже уезжал, но это было первое и последнее бегство отца от нас. Мама никогда не обзывала обеих соседок брошенками, это было не в её природе. Баба Пелагея продолжала приводить к нам внука. Этот соседский паренёк, проводивший с нами зимние вечера в присутствии своей бабули, в нашу жизнь вносил некоторую новизну. Когда баба Пелагея, которая считала, что уже изрядно засиделась, оповещала внука, что им пора уже топать домой, мы, и её внук Лёня тут же жалобно просили, чтобы они побыли у нас ещё немного. Однако в своём решении его бабуля была непреклонна, одевала внука в пальтишко и уводила, держа того за руку, при этом сердито ему наговаривала: «И что же ты такив нудный, вони же ночь могут сидэть, а ты у нас ни такив, шукай всё, что б им не досталось». С одной стороны ей было вроде бы жалко внука, что ему дома не с кем играть, и от этого, приводя его к нам, она шла ему на уступки, а с другой – она не желала, чтобы их единственное чадо как бы чего плохого не нахватался от нас, отчаянных шалунов. И впрямь, иной раз соседи о нас отзывались отнюдь не лестно, хотя мы, в полном смысле, сорванцами и хулиганами не слыли. Тем не менее это опасение соседей говорило о том, что по своему крестьянскому происхождению они ставили себя значительно выше нас. В первую очередь это относилось к нашим родителям, которые для Рекуновых ничего из себя не представляли. Для них, чем важней была особа, тем почётней с ней знаться. Однако наши родители заслуживали почтительного к себе отношения одним тем, что слыли добрыми и отзывчивыми, с которыми такие отношения только и можно было поддерживать, а для своей выгоды стремились к сближению с бригадиром и учётчиком и т. д.
А нам, да и людям было отчего недоумевать, когда дядька Веня собственноручно выстроил на высоком фундаменте дом с верандой, а потом через год неожиданно оставил семью и отбыл в неизвестном направлении. По крайней мере, так нам казалось, хотя на самой деле мне помнится, как родители Лёньки между собой скверно ладили, постоянно скандалили. Его отец слыл настоящим буяном, постоянно гонял жену, тёщу и сына, и бедолагам приходилось скрываться бегством, находя у нас приют на время разъярённого хозяина.
Что заставило дядьку Веню вдруг бросить жену и сына, я не знаю и по сей день. Хорошо помню то воскресенье, когда дядька Веня зачем-то поехал в город, а домой не вернулся. Его, конечно, ждали, видимо, не один день, и даже подавали в розыск, о его нахождении ходили разноречивые слухи, что-де он проворовался и потому был вынужден скрываться. Даже говорили, что он примкнул к преступной шайке, которую переловили и потом осудили.
Помню, на мой вопрос, почему дядька Beня бросил семью, мама отвечала: «Ему очень не нравилась баба Пелагея. А кому она нравится у нас, она же самая первая сплетница, я бы с такой под одной крышей тоже не жила. А тётка Валя всегда заступалась за мать, вот и получился разлад. Дядьку Веню я не защищаю, он был хороший хозяин, дом какой построил, но отъявленный задира. А наш отец не задира, и по хозяйству плохо помогает…»
И чтобы о дядьке Вене довести рассказ до конца, следует сказать, что некогда сгинувший без следа, он вдруг объявился точно так же, как и исчез на долгие годы. Когда Лёнька, его сын, отслужил армию, он заявил своё право на жительство. Но Лёнька, выросший без отца, воспротивился его желанию, поскольку не мог простить ему предательства, из-за чего много перестрадал. И после длительных переговоров с Лёнькой дядька Веня, с трудом получил разрешение сына и был принят в семью. Хотя до конца так и не был прощён.
В колхозе дядька Веня работал на скотне, говорили, что где-то у него была ещё одна семья, что несколько лет он провёл в тюрьме. На свободу вышел с изрядно подорванным здоровьем, и пожив с семьей женившегося сына года два, он прямо на ферме умер, к его смерти многие отнеслись спокойно, словно тот заслужил такую кару…
Заодно расскажу о других соседях, Волосковых, у которых произошла почти сходная история. Правда, у тётки Марфы, дородной, чересчур толстой женщины, было две дочери и она тоже жила с матерью. Кстати, обе её дочери были такой же комплекции, росли этакими пампушками толстощёкими и толстоногими, отец которых в поведении почти ничем не отличался от первого соседа; он тоже был неисправимый пьяница и буян, гнал самогон; от их двора постоянно несло сивушным запахом. На этой почве два соседа были дружны. Вот только хорошо не помню, участвовал ли наш отец в их пьяных оргиях, продолжавшихся даже ночью. Если и бывал когда в их компании, то, наверное, не столь часто, так как наш отец, будучи не буян, таких людей, какими слыли оба наших соседа, всячески сторонился. И вот Волосков тоже уехал, правда, основательно, с вещами, не посмотрев даже на то, что обрекал на полусиротскую участь своих двух дочерей…
Я уже тогда начинал понимать, что через несколько лет после заключения брака жёны часто вполне обоснованно остаются недовольны своими мужьями, и выясняется, что не разглядели в своих суженых таких, каких им бы хотелось иметь. Это относилось не только к неудачливым соседкам, которые вышли замуж за бывших солдат, проходивших службу в армии в наших краях, а также и к нашей маме, терпеливо сносившей бремя с постылым мужем. Но эта проблема не относится к теме данных записок, для меня важно передать саму атмосферу моего детства, воспоминания о котором, однако, не так-то легко извлечь из памяти, звучащих в душе приятной любимой мелодией, вызывающей тоску по той поре, что детство никогда не повторится…
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: