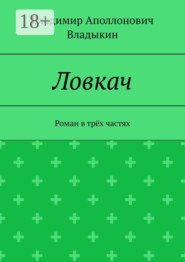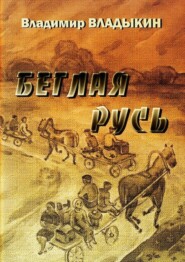По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Прощание навсегда
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Должен пояснить, её назвали так потому, что в ней обитали соколы, которые становились добычей охотников. А вот северо-восточная лесополоса была реденькая, потому что жители посёлка потихоньку вырубывали деревья для своих хозяйственных нужд.
Но если от северного ветра посёлок частично заслонялся холмистым полем, то больше всего ему доставалось с восточной стороны, откуда чаще всего дули сильные ветры, так как с этого края его абсолютно ничто не защищало, поскольку и без того неровный степной рельеф бесконечно разрезали балки, и они перемежались полями, которые тянулись этакими террасами к самому займищу и всё дальше на восток. Причём и сам посёлок с востока на запад тянулся полого единственной улицей, разрезанной пополам балкой, к самому подножию колхозного двора, раскинувшегося своими длинными фермами, сараями и прочими строениями на довольно возвышенном местечке.
Отсюда открывался чудесный вид и на посёлок, и на ближние и дальние окрестности, которые с детства для меня стали самыми дорогими. А с южной стороны прилегало не очень большое поле, опоясанное параллельно нашему посёлку лесополосой, которая называлась Вишнёвкой, тянувшейся в четырёхстах метрах с востока на запад, тем самым защищая посёлок от южного ветра…
И далее в нашей семье жизнь текла своим чередом. Сестра подрастала, мы катали её по улице в деревянной колясочке, разукрашенной под хохлому цветными узорами. И это удовольствие мне доставалось больше, чем братьям, что было делать совсем не в тягость. Я представлял, будто катаю сестру на взаправдашней машине…
Понемногу отец втягивался в заботы семьи. Однажды он разломал половину старой хаты, саман аккуратно очистил и в считанные дни сложил в другом месте из него сарай, который отделял от двора сад. Однако старая хата ещё года два служила для скотины сараем, где содержали гурт овец и кур, а корову и поросёнка перевели в новый. И пройдёт какое-то время, только тогда старый сарай совсем доломают, а остатки хлама столкнут трактором в балку. А там, где ещё недавно была старая хата, землю хорошо перекопаем, очистим от камушков и станем сажать картошку.
В то время я ещё не сожалел о том, что здесь когда-то была хата, в которой прошли мои первые годы жизни. И мне отчётливо помнился низкий деревянный потолок, подбитый потемневшими от времени досками, земляной пол, устланный рукодельными дорожками. А между окошками в простенке стоял чёрный сундук, над которым на стене висело зеркало с поцарапанным полотном. На подоконнике, пригретый весенними лучами солнца, спал большой ленивый чёрный кот, которого почему-то я так любил таскать за хвост, а он только нехотя отмахивался лапой, словно протягивал мне для дружеского пожатия. Старая, повидавшая виды, хата была покрыта соломой, ставшей от времени тёмной и теперь она топорщилась, как колючая шуба у ежа. Со временем она уже представляла собой достаточное ветхое, низкое строение с нахохленным и мрачным видом, с облупившимися серыми стеками.
Вот поэтому, когда ещё была жива бабушка Маша, дедушка Петя принял неотложное решение построить новую, значительно просторней и совершенней старой хаты, к строительству которой были привлечены наши дядья. И таким образом она была возведена за одно лето, а доделывалась с участием отца на следующий год, после похорон бабушки Марии.
Об этом, разумеется, я не мог помнить, но о чём со временем узнал от мамы, которая охотно рассказывала нам о тогдашней жизни семьи. Зато хорошо помню, как в хате стелили сосновыми досками полы сначала в зале, а на следующее лето – во второй горнице.
Как ароматно и клейко пахла свежая древесная стружка, золотые её завитушки от верстака были размётаны по двору ветром, и особенно сильно пахло в хате, струганными гладкими, сияющими желтоватой белизной, неширокими половицами, красовавшимися пока в зале. И от этого в комнате стало значительно уютней и светлей, а стены казалось, раздвинулись и поднялись выше, чем были до того, когда был земляной пол.
Настилал полы дядя Влас, а ему помогал отец, почему-то он живей откликнулся на просьбу отца, хотя мне думалось, что дядя Митяй был профессиональным столяром-плотником, тогда как дядя Влас будто бы только подражал своему брату. Однако он тоже учился на плотника в том же ремесленном училище, что и дядя Митяй. Поэтому у они друг другу почти не уступали в мастерстве…
Изначально я был привязан больше к матери, нежели к отцу, значение которой в своей жизни я никогда не умалял, но держался в повседневности от него как бы на расстоянии. Зато мой младший брат Никитка установил с отцом почти приятельские отношения, отчего я стал ему завидовать, особенно, когда отец наладился брать его с собой на работу. И после таких поездок в город брат делился со мной своими впечатлениями, которые с такой нарастающей силой пробуждали во мне интерес к заводу, что однажды я упросил отца взять меня тоже с собой. И он согласился, утром следующего дня посадил меня на раму велосипеда и мы поехали в город.
Тот летний тёплый солнечный день мне врезался в память глубоко. Трудно передать те чувства, которые я пережил тогда, после чего мои представления о мире значительно расширились. Я сделал для себя открытие, что кроме родного посёлка, оказывается, есть населённый множеством людей город. Он стоял на вытянутом во все стороны высоком холме, который венчал пятью куполами собор. Его проспекты и улицы, как я узнал позже, были застроены очень давно полуторо-двух-трёхэтажными кирпичными домами, склоны которого так же были густо застроены почти такими же домами и они кварталами спускались к самой реке Аксай.
Среди скопления домов издали виднелись купола церквушек; ближе к заводу сельхозмашин высилась Триумфальная арка, покрашенная жёлтой охрой.
Город был виден, как на ладони, широкой панорамой. А для меня, до этого не видевшего в таком внушительном скоплении тысячи домов, это зрелище представлялось необычайно прекрасным, которым был, точно оглушён.
В такой приятной оторопи встреча с чужой жизнью и чужими людьми как-то непередаваемо пугала, отчего даже перехватывало дух. И казалось, солнце здесь светило как бы по-новому, будто совершено мне не знакомое, как чужая тётка.
Я вновь и вновь смотрел на город восхищёнными глазами. На первом плане то там, то тут вздымались в небо кирпичные заводские трубы; а справа высилось сумрачное здание тюрьмы, выложенное бурым кирпичом; чуть от него в стороне толпились пятиэтажные дома. А далее расстилались по всей окраине города частные кварталы из кирпичных и деревянных домов с шиферными и железными кровлями. В стороне от жилого сектора, по спуску, бежала булыжная дорога; затем она исчезала за домами и вновь поднималась по довольно крутому подъёму к самой Триумфальной арке и далее к рынку, где на углу пересечения улиц папертью на площадь смотрела Михайловская церковь с островерхим почти готическим куполом и крестом, который сиял на солнце позолотой. Городские кварталы теснились по всему холму, окутанному вдали солнечной дымкой и невесомой уличной пылью, поднятой проезжающим транспортом, и продуваемому со всех сторон степными ветрами…
В памяти так же глубоко отложился сам процесс делания кирпича и как он сырой, пахнущий влажной глиной, двигался по рольгану из-под огромного пресса длинной зеленоватой лентой, которую на отдельные дольки разрезал автоматический нож. И с рольгана ловкие руки рабочих перекладывали кирпичи на подвесные металлические люльки, потом они посыпались каким-то белым порошком, похожим на древесные опилки…
И весь этот нескончаемый конвейер двигался в глубокие красные печи, похожие на пещеры, для обжига. И потом из их раскалённых утроб уже красный кирпич рабочие вывозили вручную на железных тачках для складирования на специально отведённых для него площадках, притрушенных красной кирпичной пылью, где складывали их большими кубами раздетые по пояс мокрые от пота и жара мужчины и даже женщины, но, правда, одетые поверх платьев в кожаные фартуки, в больших ботинках и брезентовых рукавицах…
Отец в бутылке приносил «колючую воду», отдававшую кисловатостью металла и протухшим яйцом. Вспоминалось также и то, как он договаривался с шофёром самосвала, возившего из карьера сырую глину на завод для поделки кирпича, чтобы тот покатал меня, а он этим временем мог заняться ремонтом выходившего из строя оборудования…
А после приезда из города я ликовал от того, что мне будет что рассказать о своих впечатлениях маме и старшему брату Глебу. После первой поездки к отцу на работу, в город я попал не скоро, так как у отца ко мне почему-то не всегда было благосклонное расположение. И как я не просил взять меня с собой, отец всё равно неумолимо отказывал, а если я продолжал настырно упрашивать, он бесцеремонно на меня покрикивал. Ах, как я хотел, чтобы он взял меня на завод! Но не тут-то было. Утром он уехал один, а мне ничего другого не оставалось, как выйти за двор, на улицу, что делал несколько раз на дню, вплоть до вечера, устремляя свой тоскующий взор туда, далеко-далеко на степной просёлок, который поднимался из балки на бугор. Наверху сбоку дороги рос куст шиповника, принимавший в сознании причудливые очертания ехавшего на велосипеде отца. Я даже не мог себе ответить: для чего, какой цели я так настойчиво выглядывал без конца отца? Или только потому, что хотел дождаться его и услышать от него обещание, что в следующий раз он непременно возьмёт меня на работу, увидев при этом тоскующий мой взгляд, направленный в затаённой обиде на него, что мне нельзя отказывать и ободряющим тоном скажет: «Хорошо, Миша, завтра мы поедем с тобой, будь готов»! Но к моему огорчению, он молчал, а я про себя отгадывал «ребус» сердечной привязанности отца к Никитке, которому он редко когда отказывал в чем-либо. И тот каким-то образом завоёвывал у отца все симпатии, ничего мне не оставляя. И между ними как-то сама собой завязалась тесная дружба, доходившая порой до панибратства, этакого бесшабашного приятельства, объяснявшегося во многом тем, что отец находил в Никитке нечто большее от своей натуры с беспечными замашками проводить время, чем во мне.
Когда отец работал во вторую смену, он не брал с собой даже Никитку. Но однажды брат попросился, чтобы посмотреть ночной город, и это ему удалось с первого раза. И вот они уехали, а двор для меня тотчас опустел. Как неприкаянный, не умевший никому жаловаться, я слонялся без дела по двору с сосущей в душе тоской. Мне никуда не хотелось идти: ни к товарищам гонять на поляне резиновый мяч, ни купаться на пруд. Словом, я бесцельно бродил, слонялся по двору из угла в угол, а моё воображение рисовало в подробностях город на холме с венчающим его собором, и в особенности его заводской район. И в подсознательном ожидании я крепко надеялся, что мне всё равно рано или поздно непременно удастся в упоении насладиться созерцанием его недоступной каменной величавости, насквозь пропахшего выхлопными газами автомобильного транспорта. А над его каменными мостовыми, покрытыми древней пылью, пронеслось множество зыбучих нескончаемых времён…
Почему-то образ города связывался в сознании также с холодным вкусом солоноватой колючей газированной воды, которую отец часто привозил домой в стеклянных бутылках…
4. Свет издалека
Второе десятилетие уже исчисляла атомная эра; неудержимыми темпами развивалась сельскохозяйственная, автомобильная, самолётостроение, электронная, космическая техника; перевооружалась армия; росли новые и хорошели старые города. А наш посёлок долгие десятилетия освещался керосиновыми лампами.
Молодость моей мамы прошла при керосинке, так как посёлок ещё не был электрифицирован. И только в конце пятидесятых годов по улице стали развозить сосновые электроопоры. А колхозные плотники новенькие ошкуренные брёвна, ещё свежо золотившиеся после очистки коры, заостряли на концах на конус, как карандаши. А с другого конца толстой стальной проволокой к ним прикручивали в двух местах металлические швеллера. И так накрепко их затягивали, что они намертво врезались в древесину.
Весело и хмельно пахло свежей смолистой корой и сосновыми стружками. И вот наступил долгожданный момент, когда столб опустили в вырытую квадратную яму швеллерным концом, затем туда набивали мелкого кирпича, тщательно трамбовали и начинали засыпать сырой землёй, чтобы столб не шатался, вонзавшийся в небесную лазурь как бы гигантской стрелой для стрельбы из лука. Один столб устанавливали на два двора. И когда по обе стороны улицы, наконец их все укрепили, приступили к натяжению алюминиевых проводов, крепившихся на предварительно вкрученные в столбы изоляторы. Два натянутых в струнку провода от столба к столбу поблескивали в лучах солнца и несказанно очаровывали нас, мальчишек. А когда пара проводов от столбов наклонно побежала к хатам, мы почувствовали радостное возбуждение, что скоро у нас в домах засияет электричество, и будем испытывать нескончаемый праздник, больше не будут нужны керосиновые лампы, столько лет служившие верой и правдой, давая свет.
Ещё до конца не была как следует готова электролиния, а многие хозяева уже заранее стали запасаться электрическими патронами, выключателями, розетками, роликами, плетёным, рябеньким проводом и прочим материалом, чтобы в хатах наконец зажёгся долгожданный электрический свет. И вот это мгновение настало, отец дал колхозным электромонтёрам электрический фонарь с металлическим абажуром, чтобы они закрепили его на столбе и пустили для него ещё один провод. Остальную работу он мог вполне сделать сам, а потом провёл электропроводку в обоих комнатах хаты, в коридоре, так как на заводе он работал электрослесарем. А вот в некоторых хатах посельчан электроосвещение проводили колхозные электрики, одним из которых был Иван Шинкарёв, он жил в нашем посёлке и часто за чем-нибудь обращался к отцу, бывало, они даже вместе выпивали. И с того времени, как провели электричество, среди посельчан они стали уважаемыми людьми. Не знаю, как Шинкарёва, а вот нашего отца многие хозяева приглашали, когда узнали, что в нашей хате чуть ли не в первой из всего посёлка вспыхнул электрическиё свет. И к нашему двору без конца тянулись со своими просьбами ходоки, которым отец никогда не отказывал. И обыкновенно по воскресеньям или после работы он только и занимался этими шабашками. Впрочем, и значительно позже, когда люди стали в своих дворах возводить новые кирпичные дома. И потому ему всегда находилась побочная работа…
Я помню, какое сильное впечатление произвела на меня и братьев первая электрическая лампочка. Она была грушевидной формы, из тонкого прозрачного стекала, когда к включению света всё было готово, мы собрались в комнате, и вот отец щёлкнул выключателем, и тотчас под потолком воссияла настоящая звезда, которая казалось, прилетела к нам с ночного неба. При виде диковинного светящегося огня, струящегося яркими колючими лучами в разные стороны равномерными золотистыми нитевидными потоками из совсем маленького шарообразного стекла, из моей души вырывалась несказанная радость. И от этого волшебного света в комнате было так необыкновенно светло, как при солнечном свете. В другой комнате также засветилась лампочка, оранжевой яркой звездой, и отныне электрический свет навеки заменил собой керосиновые лампы, столько лет верно служившие людям. И перед мощью электричества казалось выглядели такими никчемными, что только вызывали жалость.
Хотя на самом деле от ламп пока никто не собирался отказываться, поскольку люди ещё не ведали, насколько надёжно и долговечно электричество, перед которым некоторые даже испытывали страх. Поэтому керосиновые лампы не убирались, а по-прежнему висели на стене на случай непредвиденных обстоятельств в недалёком будущем. И должен сказать, что лет через шесть, после сильного гололёда, под тяжестью намерзшего льда, электропровода были порваны и целую неделю электромонтёры восстанавливали в посёлок подачу электроэнергии. И все эти вечера во всех домах зажигали по старинке керосиновые лампы. Помню, как я сидел за столом и читал при свете керосинки несколько вечеров толстую книгу, в которой рассказывалось о подполье в условиях военного концлагеря. Я с огромным интересом знакомился с жизнью в неволе мужественных людей, которые боролись с жестокостью фашистов.
А вскоре в нашей хате вместо отжившей свой век «чёрной тарелки» колхозного радио, заговорил радиоприёмник, работавший от электросети, населивший тотчас комнаты неслыханными доселе голосами всего мира. И моё игривое воображение живо рисовало города тех стран, откуда вещались передачи, и от этого моя жизнь становилась заметно богаче. Моя фантазия развивала любознательность. Может быть, от этого со временем у меня пробудился интерес к географии и картам, так как я стремился узнавать как можно больше городов и стран, вещавших из радиоприёмника.
А спустя год или два после проведённого в посёлок электричества, наиболее зажиточные дворы стали приобретать телевизоры – эти своеобразные окна в неоглядный мир. В то время телевидение, разумеется, во всю уже распространилось по стране, о котором мы, однако, узнали намного позже, когда один или два двора уже владели телевизорами, которые для большинства были ещё долго недосягаемой роскошью. Зато мы, тогдашняя послевоенная детвора, любила ходить по воскресеньям в клуб на детские сеансы, а кто-то и на взрослые. Фильмы о войне и пограничниках были предметом наших постоянных мечтаний. А стоило показать о гражданской жизни, как мы поднимали на весь зал воистину разбойничий свист, которым выражали протест и возмущение, обманутых киношником «серой мурой».
О том, какой будет следующий фильм, нас своевременно извещали, развешенные по улице на столбах, киноафиши, притягивавшие к себе мальчишеские взоры, как магнитом. В хорошую погоду, особенно летом, киношник-Алик, живший в городе, приезжал к началу сеанса всегда вовремя. Но в дождливую погоду, случалось, на клубе висел замок, но мы, детвора, невзирая на небесную хлябь, всё равно собирались и мокли под дождём в ожидании киномеханика с его кинолентами, которые несли под мышками, сопровождавшие его пацаны из соседнего посёлка Верхний, располагавшийся ближе к городу. Вот бывало мы упорно ждём, а дождь всё идёт, и уже начинаем терять надежду, мрачнеем оттого, что «кина» не будет. Но вот вскоре пришлёпал на протезной ноге, близко живший завклуб, жена которого убирала клуб, выметая мусор и вымывая за пацанами и взрослыми грязь. Он открыл деревянную пристройку к клубу, и мы укрылись в ней от дождя и теперь можем ждать киномеханика Алика со своими помощниками. С приходом завклуба вероятность срыва киносеанса как бы исчезала, и мы, обнадёживались, что скоро и Алик пришлёпает. Алик был хроменький, худощавый на вид, как-то несколько в пояснице перекошен, с тонким женским голосом, мог быть и суровым, и весёлым. Обычно двумя часами раньше он всегда крутил сеанс в посёлке Верхний, а потом подходил и к нам черёд…
Хотя время начала сеанса уже истекало, а долгожданного киномеханика всё не было и не было. Тем не менее мы, детвора, продолжаем терпеливо ждать, вовсе не думая расходиться по домам, с трепетным вожделением всматриваемся в серую хмурь конца улицы, где предположительно должен вот-вот из-за поворота от кладбища появиться Алик с пацанами, всегда державшими под мышками по паре круглых металлических коробок с лентами.
Но вот по-прежнему улица в конце была пустынна, только колеблется под угрюмым серым небом морось нудного дождя. Мы безнадёжно вздыхаем, опечалено опускаем к долу глаза. А кто-то из ребят, потерявших всякую надежду, обречённо изрекает, мол, всё – шабаш, кино на сегодня отменяется, киношник заболел от чрезмерного винного чревоугодия. И хоть эта шутка одними принималась всерьёз, а другими с недоверием, поскольку некоторые пацаны продолжали верить, и благодаря которым упорно ждём киношника и, как истые фанаты, тоже отказываемся верить, что на этот раз кино и впрямь отменяется.
Но вот кто-то самый остроглазый высмотрел, идущую через простиравшееся от огородов подворий, поле цепочку странных путников. И тут раздался ребячий многоголосый ликующий возглас: «Идут, идут! Ура, ура!» И кажется с минуту в воздухе висит монотонный звук роя пчёл. И тотчас стремительно выбежали из клубной веранды на улицу, где была часть ребят, и мокли под дождём, как стражники, и всем скопом дружно захлопали в ладоши, оглашая звонкими визгливыми выкриками окрестности клуба, что праздник кино всё-таки нам обеспечен. Мы вознаграждены за терпеливое ожидание своего обожаемого киномеханика Алика, который в тот момент нам представлялся настоящим героем, совершившим где-то беспримерный подвиг.
«Ждёте?!» – кричал он как-то пискляво, озорным тоном, ещё издали, на подходе к клубу во главе своей свиты, сильно хромая на одну ногу, доставая на ходу от киноаппаратной ключи из пиджака, вымокшего под дождём за время пути из посёлка Верхний в наш посёлок Киров. Его лицо всегда этакое грустное, несколько рябоватое, сейчас лучилось удивлением, так как он и сам не надеялся застать нас, своих верных кинозрителей, поскольку задержался он ни мало ни много – на час. Правда, бывали случаи, когда напрочь потеряв терпение, его уже и впрямь не ждали, и всё расходились по домам. Однако в таких случаях Алик рассылал по улице двух-трёх пацанов, оповещавших, что ранее объявленный сеанс, состоится часом позже. На его «ждёте», мы дружным хором выкрикивали: «Ждём!» С Аликом в аппаратную ввалилось его несколько помощников, которых от киномеханика мы уже не отделяли, и воспринимали их как единую команду. Пока они перематывали киноленты и заряжали ими аппараты, Алик приступил к обилечиванию детворы. А во время сеанса его помощники следили за порядком в зале.
В клубе почему-то всегда пахло пылью с примесью киноленты и сухого дерева. В зала стояли длинные со спинками деревянные лавки, порядочно изрезанные шкодливыми ножичками пацанов. После перемотки кинолент и обилечивания детворы, мы, зрители, рассаживались на лавках в ожидании сеанса, с желанием, чтобы он никогда не кончался.
И в этот момент наш дорогой киномеханик Алик вдруг превращался в сущего врага для тех пацанов, у кого по иронии судьбы не было денег. Сначала они упрашивали Алика пропустить их без билета, мол, забыли взять деньги, но обязательное принесут в другой раз. Однако Алик на слово никому не верил, и ни на какие уступки не поддавался. И поэтому казался беспощадным, жадным хроменьким уродцем. И тогда безденежными пацанами принималось дерзкое решение – во что бы то ни стало прошмыгнуть в кинозал. Вот кто-то подговоренный ребятами открывал изнутри, со стороны сцены, окно, которое за кулисами не было видно.
И таким образом безбилетники проникали в зал, прятались на сцене, тогда как некоторые, ещё до начала сеанса, умудрялись прятаться то под лавками, то в складках кулис. Однако Алика было весьма трудно провести, он уже досконально изучил повадки безбилетников. Ему ничего не стоило понаблюдать в смотровое окошко аппаратной за настроением зала. И если обстановка в зале ему не нравилась, если кто-то сновал чёрной тенью по сцене, он незамедлительно велел помощнику остановить проекционный аппарат, зажигал в зале свет и вскоре обнаруженные безбилетники были выпровожены на улицу.
Обыкновенно таких несчастных зрители провожали сочувственно, при этом испытывая удовлетворение оттого, что смотрели кино на законных основаниях. Хотя из нас никто не был застрахован от того, что в другой раз могли тоже оказаться на их месте.
Конечно, на этом безбилетники ничуть не успокаивались, стремясь вновь проникнуть в зал, как истые мастера своего дела. Но скоро были выявлены бдительным оком киношника и выведены Аликом за ухо на улицу под улюлюкающий смех зала. Пацаны из его свиты почему-то не всегда добросовестно выявляли безбилетников, за что между ними и Аликом возникали даже перебранки.
За время сеанса проникание в клуб таким же образом могло продолжаться нескольку раз и столько же пацаны выдворялись вездесущим Аликом. Правда, некоторым безбилетникам иногда всё-таки удавалось высидеть сеанс от начала до конца. Но таких везунчиков было немного.
В следующий раз те ребята, которым надоело быть без конца выдворяемыми из зала, запасались необходимым пятаком. Именно столько тогда стоил детский киношный билет. Но в ту пору пять копеек считались деньгами, особенно для малоимущих пацанов, в разряд которых попадал и я, поскольку у нас была на счету каждая копейка. Поэтому экономя пятаки, мы подчас тоже рисковали пройти в зал без билета, чем особенно отличался Никитка. В отличие от безбилетных завсегдатаев мне почему-то везло чаще. Я не всегда выдворялся из кинозала. А вот Никитка со своим другом Димкой Метловым, даже имея в кармане пятаки, находили удовольствие пролезать в зал без билета и чаще кого-либо выгонялись из клуба.
Для выявления безбилетников Алик зажигал в клубе свет и, хромая, входил в зал, начиная внимательно шарить по лицам зрителей своим намётанным оком; и его нацеленный, острый взор мгновенно выхватывал Димку, которого он искал. Затем зацепился на Никитке, на братьях Косолаповых. А подручные Алика по его команде выгоняли прочь из зала нарушителей порядка. Разоблачённые пацаны, как, например, Иван Косолапов с Васькой Дубакиным, даже не дожидаясь пинка Алика, сами пулей вылетали из клуба под смех и улюлюканье зала. А вот и я притаился в углу, как мышь, жду своей очереди – полечу следом за товарищами, как пить дать; сердце при этом вовсю колотится. Я слежу тайком за взглядом Алика. И когда он приближался, я нарочно делал беспечную, ничего незначащую позу. О, какое чудо! Взгляд Алика лишь скользнул по мне и пошёл дальше прощупывать физиономии маленьких зрителей: неужели я спасён?
Однако всё равно побаивался, чтобы кто-то из моих недругов, например, Иван Косолапов, не продал Алику, что знал на опыте других. Но это особый разговор. (Сейчас тут ему не место). А что же меня спасло? Видимо, одно то, что я чаще брал билет, чем пролезал без него. Но однажды я тоже попался. Алик старался запоминать обилеченых им пацанов, чтобы потом ему было легче распознавать безбилетников, я только так могу объяснить, как однажды он выгнал меня вслед за другими…
Между прочим, Алик от этого, казалось, тоже получал удовольствие, словно от предлагаемой нами игры в безбилетника, так как никогда не выходил из себя…
Родители нам запрещали убегать на вечерние сеансы, но мы всё равно их не слушали. Но проникнуть в зал было очень даже непросто, так как нас, пацанов, на взрослое кино ни под каким предлогом не пропускали даже за деньги. Вот такое было тогда отношение к подрастающему поколению. Хотя фильмы были совершенно невинные, но было достаточно одного того, что они предназначались для взрослых. И нам оставалось только со стороны сцены залезать в окно, или перед началом сеанса спрятаться под лавками, что, конечно, было сделать так же нелегко, как днём на детском сеансе. Причём мы очень завидовали большим пацанам, потому что их запросто пропускали в кино. И мы были вынуждены просить кого-нибудь из них открыть нам внутренние ставни на окне, где в одной секции рамы стекол уже давно не было. И мы проворно, один за другим, пролезали в него и прятались за кулисами.
Если нас не обнаруживали, мы прямо на полу размещались смотреть фильм. Конечно, нам везло так не всегда. Кому-то из помощников Алика стало известно о наших проделках, и тогда он установил за окнами неусыпный контроль. Но мы всё-таки наловчились смотреть кино с улицы, в часть приоткрытого окна. Правда, в лунные вечера свет дорожкой падал прямо на экран, мешавший взрослым смотреть фильм. И тогда завклуб решительно закрывал ставни на крючки, а нам ничего не оставалось, как смириться со своей участью малолеток, или просто-напросто глазеть в узкую щель между ставнями. Хотя это довольно скромное соглядатайство для нас было мучительным наказанием…
Спустя много лет детская пора вспоминается с грустью, и с сожалением думаешь, что те времена безвозвратно канули в Лету. И даже теперь не верится, что с таким захватывающим азартом влекли к себе взрослые фильмы, которые открывали для нас совершенно другой мир, нежели детское кино. От этого жизнь наполнялась новым содержанием и смыслом, а мы становились то ли взрослей, то ли искушённей…
В наши дни старый клуб до того обветшал, что пришёл в полное запустение, и стоит полуразрушенным. Сначала, когда построили новый, в старом клубе устроили детсад. Но через несколько лет его перевели в специальное построенное для него здание со своей котельной. А клуб приспособили под общежитие для сезонников, прикомандированных на время жатвы и уборки урожая шоферов, студентов, присылаемых в помощь колхозу, даже обитали солдаты. А одно лето в нём жили одни цыгане. И всё это время клуб ни разу не ремонтировали. Поэтому со временем он неотвратимо приходил в запустение, с каждым годом ветшал всё больше и больше. И наконец пришло время, когда он больше ни под какое жильё уже был не пригоден. В нём совершенно отпала всякая нужда. А его вид, конечно, вызывал всемерное сочувствие и сожаление. И вот в нём были выбиты все стёкла, варварски изломаны двери, оконные рамы, осыпались обшарпанные стены, кусками отваливалась глинопесчаная штукатурка, прогнулся сильно потолок, из которого вырвана половина досок. И кругом хлам, мусор. Молодёжь пробовала своими силами привести клуб в порядок и оборудовать спортзал, но нашли только один закуток, позанимались всего одно лето… А когда заводилы ушли в армию, там уже некому было тренироваться…