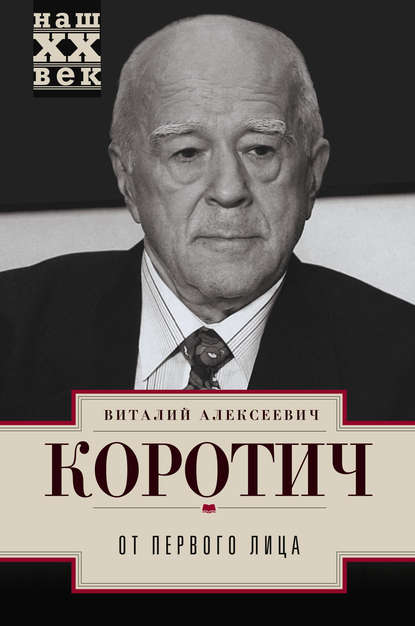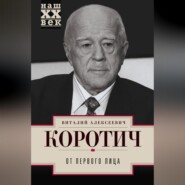По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
От первого лица
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В его нынешнем виде журнал «Всесвiт» начал выходить в пятидесятых годах, и его возглавил один из главных громил украинской литературы Александр Полторацкий (он был высокого роста и носил кличку «Полторадурацкий»). Это был циничный, но неглупый человек, выполнивший социальный заказ по созданию ежемесячника, где будет вестись неусыпная борьба с буржуазными влияниями и будут предлагаться народу так называемые прогрессивные зарубежные авторы. Прогрессивных авторов, поскольку в мировой художественной литературе они были не шибко заметны, набиралось немного. Реакционными считались Кафка и Пруст, Ионеско, Беккет, Беллоу (в девяностых я буду преподавать в Бостоне вместе с нобелевским лауреатом Солом Беллоу) и даже не очень доступный, ввиду сложности, массовому читателю Т. С. Элиот. Почти никто из лауреатов Нобелевской премии, включая русских, не подлежал популяризации. Были еще реакционные авторы, так сказать, переменного значения. Такие, как американцы Говард Фаст или Эптон Синклер, перешедшие из разряда самых прогрессивных в категорию великих злодеев. Были авторы неизменно прогрессивные, как француз Андре Стиль или англичанин Джеймс Олдридж (помню, как мне в Лондоне понадобился Олдридж, и я обзвонил все издательства: ни в одном из них о таком авторе понятия не имели). Впрочем, закрома мировой литературы оставались огромными – там можно было выбирать и публиковать немало, даже при всех странностях отечественного отбора. Мы открывали для себя то Ремарка, то Фицджеральда, то Сартра (пока он восхищался советским социализмом), и ежемесячный журнал переводов мог вполне процветать.
Александр Полторацкий состарился, вышел на пенсию и умер. Сразу же разнесся слух, что редактором назначат меня. Но конец шестидесятых годов был временем, когда я мог потерять, а не обрести работу. Идеологический секретарь ЦК Федор Овчаренко ненавидел меня всеми фибрами своей партийной души. К тому времени в Киеве появился западноукраинский поэт Дмитро Павлычко, которого тоже надо было куда-то пристраивать. Павлычко был человеком одаренным, хотя и очень региональным по лексике и тематике, – весь из живописного украинского Прикарпатья. Судьба его сложилась непросто. Родившись до войны и впервые пойдя в польскую школу на территории, принадлежавшей Польше, он во время войны и сразу после нее оказался в зоне активнейшего антисоветского партизанского движения. Тогда же его арестовали, допрашивали и сломали – многие арестованные ломались в то время. Дальше начинается период, покрытый слоем гэбистских досье, которых мы с вами не читали. Сами досье хранятся, где надо, на Украине, копии их спрятаны, где надо, в Москве, а что у кого в душе происходит – дело личное.
В конце пятидесятых годов Павлычко переселился в Киев. Он был совершенно чужд этому городу, и поэтому следом за ним пришла легенда, что был Дмитро осведомителем у гэбэшников, сдавал им своих вчерашних друзей из партизанского леса. А когда случилась хрущевская амнистия и многие бывшие бандеровцы начали возвращаться из магаданов, пришлось Павлычко убираться в Киев. Это была легенда, а правда, повторяю, скрыта в не читанных нами досье. Но надо было как-то объяснять, откуда он взялся в Киеве, почему во Львове от Павлычко ушла жена и почему за ним потянулся в Киев дурно пахнущий шлейф сомнительной репутации.
Экзотический поэт немедленно получил в Киеве квартиру на углу Крещатика и бульвара Шевченко, книги его начали выходить одна за другой, и в книгах этих проклятия в адрес буржуазных националистов, папы римского и всех прочих врагов прогрессивного человечества чередовались с хорошо написанной лирикой. Павлычко искал общения, в разговорах сразу же раскисал и рассказывал одну и ту же историю о том, как следователь избивал его дощечкой от паркета. Был он какой-то весь неустроенный и жалкий, в ресторанах старался не участвовать в оплате застолья, исчезая за минуту-другую до подачи счета. Многие жалели его, иные пытались понять. Московский поэт Наум Коржавин, в ту пору много переводивший с украинского, в том числе мои стихи, как-то сказал мне: «Знаешь, Дмитро – человек, совершенно разрушенный внутренне. В нем сломали человеческую сущность. Он с коммунистами – коммунист, с националистами – националист, с евреями – еврей, с антисемитами – антисемит. Самое страшное, что всякий раз он искренен – там человеческой души уже нет…»
Вскоре Павлычко странным образом занял место, освободившееся во «Всесвiте» после смерти Полторацкого. Позже киевский прозаик Павло Загребельный рассказал мне, как Щербицкий дал ему почитать стенограмму беседы с Павлычко в ЦК, когда тот умолял о назначении на редакторство: «Ты представить себе не можешь, какие гадости он говорил обо всех тех, кто был в республике более или менее популярен! И про тебя, и про меня тоже. Бог с ним…»
Я не держал зла на несчастного Павлычко. Тем более что при нем «Всесвiт» стал неплохим изданием. Правда, журнал был скучноват, почти не иллюстрировался, делался с одержимостью учителя из сельской глубинки, считающего возможным пренебречь всем, кроме образования своих питомцев. Было в Павлычко этакое вдохновение деревенского парня, ринувшегося спасать безбожные города. Не он один такой…
Но чиновничье племя никогда не оставляло в покое тех, за кого уцепилось. Во второй половине семидесятых годов по Киеву снова поползли слухи о том, что КГБ с Павлычко опять чего-то не поделили. Это выглядело странно, потому что в стихах и статьях он продолжал исправно разоблачать империалистов, националистов и римского папу. Но гром грянул, и Павлычко ринулся ко всем, кому угодно, просить помощи. Мы с ним никогда не враждовали в открытую, а людей с поломанными судьбами вокруг было немало, поэтому я взялся помочь Дмитру как одному из таких несчастных. Мы с ним двинулись в Киевский горком партии, где секретарем по идеологии была моя давняя знакомая Тамара Главак. Мы заявились к ней в приемную, представились и попросили аудиенции. Главак передала через секретаря, чтобы я вошел, а Павлычко еще посидел в приемной.
– Значит, так, – сказала Тамара Владимировна, – я его не приму. И ты не лезь в это дело. У него какие-то свои хвосты с КГБ, свои счеты – пусть сами и мирятся. Не пропадет…
Павлычко ушел в отставку. В коллективе с этим быстро смирились и впали в панику совсем по иному поводу: государство резко повысило цены на газеты и журналы, тираж популярного «Всесвiта» угрожающе пополз вниз. Мы вместе с Павлычко провели в журнале организационное собрание, я придумал новое оформление (этот макет до сих пор используется как основной), нашли в загашниках интересный роман Ирвина Шоу. Журнал постепенно ожил, стал более светским, обрел новую популярность. Но это был журнал иностранной литературы, подразумевающий международное общение, а власть не любила оставлять такое общение неподконтрольным.
Еще в 1967 и 1969 годах, когда ЮНЕСКО предоставляло мне свои стипендии, ласковые гэбэшные ребята вились вокруг стаями. Тогда я как-то вывернулся, ни на кого не накапал, не заложил ни одного эмигранта, хоть сыграть дурака было совсем не просто. Со мной работал старый кадровик украинского МИДа Сергей Бутовский, постоянно подсовывавший мне какие-то книги, которые надлежало читать в его присутствии, расписываясь в прочтении. Помню одну из самых идиотских инструкций, обязывавшую меня не участвовать в лотереях за рубежом; выходить в коридор и ехать там сидя, если в купе поезда вторым пассажиром окажется женщина; не принимать денежных вознаграждений за свою работу. И тем не менее не было никакой уверенности, что если меня не подловили в тот раз (только не выпускали за рубеж несколько лет подряд), то не поймают и снова. Во «Всесвiте» я был старше и опытнее. Но работать было немыслимо трудно именно в связи с постоянным чувством опасности, с ощущением, что чиновничьи ловушки тебя схватят и уже не выпустят из крокодильих зубов.
На Украине сейчас появились резоны для всех самооправданий. Все, что не так, многие объясняют происками «руки Москвы», все, что затруднительно: «Запад нам поможет». Ну и флаг вам в руки, ребята, только не продавайте друг друга без надобности. Все равно же выяснится…
Путь возвращения в человечество и непрост, и долог. «Понимаешь, – говорил мне редактор варшавской «Газеты выборчей» Адам Михник, – можно вскипятить аквариум и получить уху. А мы теперь пробуем из ухи сделать аквариум. Чтобы мы с тобой и все остальные стали в нем рыбками…»
Заметки для памяти
29 июля 1990 года в старинном замке возле города Савонлинна в Финляндии я слушал оперу Пуччини «Мадам Баттерфляй». Пели японцы – оперный театр из Токио решил показать финнам на итальянском языке историю из японской жизни, как она представлялась классику европейской оперы.
Японцы играли драму обманутой японки и иностранца, надругавшегося над обычаями страны. Никаких пагод, никаких цветущих сакур и щедро разрисованных декораций. Кимоно, зеркала, непривычная манера двигаться. Мне показалось, что и я не все понимаю. Опера стала много глубже. Когда-то я вот так увидел «Кармен» в испанской постановке – опера была желто-белой, даже пыльной какой-то. Сошла экзотика, отступил колорит. Прибавилось жизни.
Удивительны иностранцы, привозящие в Москву русские песни: если уж это вышитая рубаха – то от подола до ворота, если меховая шапка – то гигантских размеров. Какой-нибудь Иван Ребров с его русскими песнями выглядит столь смешно главным образом за счет передозировок антуража.
Восприятие другого народа и естественная жизнь в нем – дело непростое, дается не каждому. Я вижу, как трудно дается Америка многим бывшим советским, как многие из них суетятся, поспешая стать американцами и выглядеть более заморскими, чем иные из родившихся за океаном. А многие внутри собственного народа притворяются, декорируются, подделываются невесть под кого: в смазных сапогах, с расписными хохломскими ложками за голенищем, с псевдошевченковскими усами вокруг рта. Иностранцы…
* * *
Чувство юмора в моей стране давно уже обрело функции защитительные. Мы похохатывали над собой, почти не сохранив любви к «священным коровам».
Помню карикатуру: под стеной, поставив нищенские шляпы на тротуар, сидят в ряд Маркс, Энгельс и Ленин. Бородатый Маркс наклонился к своему лучшему ученику и продолжателю и говорит: «А идея-то, Владимир, была хорошая!..»
В начале 1989 года Юрий Никулин (как всегда – первый), а за ним еще несколько моих приятелей рассказали мне один и тот же анекдот:
«В недалеком будущем идет концлагерная перекличка. Вызывают:
– Горбачев?
– Здесь!
– Яковлев?
– Я!
– Ельцин?
– Тут!
Так перекличка продолжается еще немного, а затем:
– Коротич?
Тишина.
– Коротич?
Снова тишина.
– Коротич?
– Да здесь я!
– Раньше надо было молчать, Коротич!..»
В конце 1991 года я еще раз вспомнил этот анекдот, когда в 38-м номере газеты «Аргументы и факты» было опубликовано, что председатель КГБ СССР Владимир Крючков отдал распоряжение о моем задержании 19 августа 1991 года в 7 часов 20 минут утра. Был я в списке под номером 57, Борис Ельцин, почему-то, аж 69. Шутки, конечно, шутками, но…
Глава 8
Мне очень хочется, чтобы вы ощутили, что за человек я был в конце семидесятых годов: неутомимый в попытках защитить свою независимость и понимающий, что независимость эта – не совсем то, чего от меня хотят державные воспитатели. Я очень рано понял, что родимые чиновники создали умышленную путаницу в терминах, объединяя, сращивая такие разные понятия, как родина, страна и государство. Родина была и навсегда остается для каждого категорией вечной – это сложный комплекс культурных, географических, исторических и других примет. Она может нравиться или не нравиться, но она единственная, и другой никогда не будет. Вся болтовня о родинах исторических, биологических и нумерованных (первая, вторая, третья, новая и пр.) суть попытка оправдаться перед собой за желание жить удобнее. Ничего постыдного в таком желании нет, но все эти очередные родины попросту называются странами проживания, есть такой международный термин.
Страна – это результат геополитического деления мира. Сегодня страна Турция – или Россия, или Япония – таких размеров и границы ее вот здесь, а завтра границы меняются – вот и все. Что до государства, то это устройство жизни на родине. У меня, например, бывали на родине и татары, и поляки, и кто угодно, правил царь, большевики или демократы, но государство всегда в первую очередь думало о себе, любимом, и создавало свое чиновничество для управления. Эти самые управленцы выдаивали из родины все, что удастся. Вообще говоря, любое государство – доильный аппарат, навешенный на родину. Суть демократии в том, чтобы заставить его, государство, делиться надоями.
В общем, так сложились моя жизнь и мое воспитание, что меня всегда приучали к самостоятельности и к необходимости в первую очередь полагаться на себя самого. С детства я даже в командных видах спорта участвовал не особо: мне нравилось сходиться с противником один на один, самостоятельно решая исход поединка. Я побеждал или проигрывал, но всегда понимал почему. Был я и в сборных, вначале по легкой атлетике, а позже по борьбе, в легком весе. Каждый легкоатлет бежал по своей дорожке, а борцы сходились к центру ковра с противоположных углов. Я не мог бы выступать в гимнастике или фигурном катании, где многое зависит от судей; мне надо было отчетливо видеть – «я его или он меня». Всегда надо знать цену себе и своей победе, в том числе понимать, частью какого общего дела является твое поражение или триумф. Дело может быть общим, но ты обязан оставаться личностью в нем. Так меня воспитывали дома, так складывалась жизнь. Мне кажется, что это не было эгоизмом. Моя логика восставала против свального греха советского бытия, против формулы Маяковского: «единица – вздор, единица – ноль». Понравилось ему быть нолем – и на здоровье, но я не хочу! Я верил и верю, что нормальное сообщество полноценных людей – это прежде всего союз личностей. Победа над чиновничьим муравейником может сложиться из суммы индивидуальных усилий, а не будет принесена очередной уличной толпой, вышибающей витрины в банках, магазинах и не отвечающей ни за что.
Итак, разрешите возвратить вас в мой Киев шестидесятых – начала семидесятых годов. Город был великолепен, но мне в нем бывало мрачно и мерзко, поскольку к этому времени меня уже выгнали со всех должностей. Секретарем ЦК по идеологии на Украине был некий Федор Овчаренко – личность скользкая, но с манерами, с апломбом, из тех самых красных профессоров, которых советские чинуши штамповали, ориентируясь на анкетные данные о пролетарском происхождении и политической благонадежности. Ситуация осложнялась еще и тем, что мой отец, который в политические игры никогда не играл, в молодости на короткое время оказался научным руководителем этого самого Овчаренко и выпер того с работы за болтливость и полную исследовательскую беспомощность. И надо же такому случиться, что я оказался в подчинении у этого типа, как и все, кто был связан с наукой, культурой и искусством на Украине.
Наука – вообще дело хлопотное; Овчаренко потому и двинул в партвожди, что конкретные знания там особенной роли не играли. Прыгая по ступенькам партийной лесенки, он руководил парторганизациями университета в Киеве, Академии наук Украины, а затем прямиком двинул в секретари ЦК. Вкрадчивый, освоивший все замашки этакого человека из народа, который, мол, с помощью родимой партии горы сдвинет, Овчаренко очаровывал всех начальников, которые были еще менее образованны, чем он сам. Он числился специалистом по химии воды и по марксизму одновременно. В академическом институте химии мне рассказали анекдот: с проходной директору позвонил вахтер и сообщил, что некто, называющий себя академиком Овчаренко, но не имеющий документов, требует, чтобы его пропустили. «Пусть скажет формулу воды», – велел по телефону директор. «Он не знает», – испуганно доложил вахтер. «Это академик Овчаренко! Пусть проходит! Впустите…»
Анекдот анекдотом, но именно такой человек начал руководить всей идеологической работой на Украине. Уже в ту пору я знал, что полуграмотные люди опаснее неграмотных, а полуграмотный, произведенный в главные грамотеи, может быть даже страшен. Ведь можно проговориться, выдать, что ты знаешь формулу воды, и попасть в число опасных умников, искореняемых без пощады…
Меня убирали очень забавно. Вначале тогдашний заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК Георгий Шевель вызвал меня и сказал, что есть мнение послать меня на работу в миссию при ООН в Нью-Йорке. Идея была прекрасна, но я понимал, что партийные мефистофели потребуют свою плату. Один из главных чиновничьих принципов гласил, что человек должен быть зависим. Всякий из нас постоянно должен доверять правящему аппарату веревочки, за которые его можно подергивать. Вот Шевель и сформулировал: от имени руководства и лично товарища Овчаренко мне поручается написать испепеляющую статью о книге киевского критика Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?». Ее никогда не издавали, но, существуя в бледных машинописных копиях, она наводила ужас на партийных чинуш. Мы с Дзюбой жили поблизости друг от друга, встречались семьями, и я знал его как вдумчивого и порядочного человека, давно изучающего украинские национальные проблемы. Причем в профессионально визгливое украинство он никогда не ударялся, изучал нерусские советские литературы, принимал участие в протестах против антисемитизма. Что забавнее всего: Дзюба сочинил свою книгу для просвещения партийного начальства и наивно, честно доводил до чиновного сведения собственные соображения о перекосах в национальной политике коммунистов. Посылал он рукопись книги вовсе не на Запад, а заказными бандеролями в родной ЦК. Тут-то вожди дали эту рукопись почитать своим референтам, те всполошились, и было решено проучить злодея Ивана Дзюбу. Попутно у них возникла идея, как повязать меня. Если бы я был рабочим, веревочку бы начали дергать с других узелков: «дадим – не дадим отпуск летом», «дадим – не дадим путевку», «поставим – не поставим в ночную смену». Писателей дергали за веревочки «издадим – не издадим книгу», «выдвинем – не выдвинем на премию». А когда все повязаны непорядочностью, подличать вроде бы и не стыдно. К тому же, я вам говорил, чиновничья система придумала гениальную штуку – устранение от личной ответственности. Она говорила: пойди и сделай то-то, а я беру всю ответственность на себя. Это не только у нас было; на Нюрнбергском процессе все эсэсовцы разводили руками, оправдываясь тем, что им так велели, а ответственность лежала не лично на каждом из них, а на стране вообще. Объяснять людям, что в конечном счете они обязаны быть личностями, а личности отвечают за собственные поступки, в целом ряде стран является занятием антигосударственным.
В общем, Дзюбу размазывали по стенке совершенно спокойно, зная, что никто и не пикнет в его защиту. Тем более что КГБ уже вызывал его следственными повестками, а Союзу писателей было поручено исключить вольнодумца из своих рядов. Дело было заурядным, решенным, обыкновенным.
То-то удивился Шевель, когда я отказался писать статью. Он звонил мне домой, напоминая, что для меня это жизненно важно и что от моего поведения зависит, поеду или не поеду я оправдывать доверие партии в американский город Нью-Йорк. Конечно, я хотел бы перекантоваться в Нью-Йорке, но не такой ценой. Шевель продолжал повторять, глядя на меня, как на полного идиота: «Да я свистну сейчас, и мне без вопросов принесет эту статью кто угодно из Союза писателей Украины». Но я не хотел быть кем угодно и не обучился носить рукописи в зубах. Тогда Шевель снизошел до уговоров. Это было интересно, потому что попутно проясняло его отношение к пишущей братии вообще. «Не валяй дурака, – говорил он. – Мы уверены, что впереди у тебя хорошая работа и большая интересная жизнь. А про мораль своих коллег писателей ты знаешь лучше меня, нет у них морали, они сочиняют что угодно и по первому зову. Никто тебя не осудит, даже признают за своего, а тебе это не вредно…» Так мы почирикали еще с недельку, и заведующий отделом пропаганды грустно констатировал вслух, что ЦК во мне ошибся, в Нью-Йорк я не поеду.
Статью написал Любомир Дмитерко, выходец с Западной Украины, которая традиционно считалась более националистической, а значит, двурушники оттуда ценились в идеологической сфере даже больше украинцев восточных. Наверное, поэтому они приходили оттуда целыми колоннами, выполняя любые партийные задания, и оправдывались друг перед другом неизменной формулой, произносимой шепотом: «Так было надо…» В общем, через два дня Дзюбу арестовали.
Чиновничья советская система давала постоянное ощущение беспрерывных покупок-продаж. Может быть, одна из главных причин, почему я принял горбачевские перемены, была связана с тем, что никто из лидеров перестройки не пробовал меня никогда ни изменить, ни купить.
В середине восьмидесятых все шло к решительным, крутым поворотам. Вскоре Дзюба будет реабилитирован и даже станет на какое-то время министром культуры независимой Украины. Часть партначальников погрузится в тихий маразм, другая часть ринется на службу другим идеям. Но пока еще ничего этого не было и всемогущий украинский начальник Владимир Щербицкий ничего об этом не знал. В начале 1986 года он собрал у себя в кабинете самых известных украинских писателей. Партийный вождь сказал, что хотел бы с нами посоветоваться, кто будет председателем республиканского писательского Союза после очередного съезда, предполагавшегося через несколько месяцев. «Конечно же, будут выборы, – сказал Щербицкий. – Но у нас плановое хозяйство. Вы понимаете…» Все понимали. Затем Щербицкий вдруг взглянул на меня и произнес странную фразу: «А ты, Коротич, что, в Москву собрался? Мне Горбачев говорит – отдай Коротича…»
Другие электронные книги автора Виталий Алексеевич Коротич
Застолье в застой




 1.67
1.67