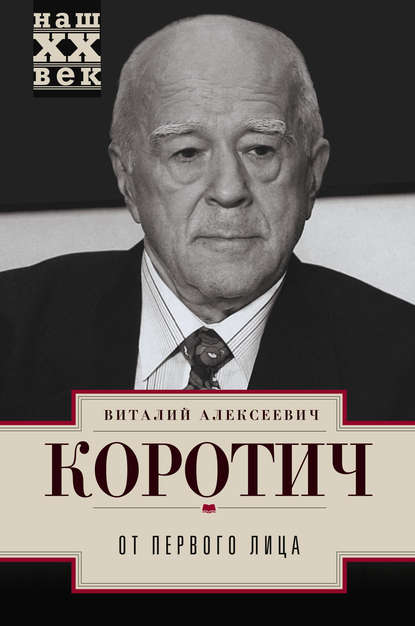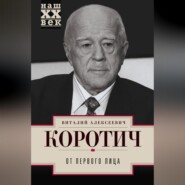По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
От первого лица
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Во многом все это повторилось в судьбе Ельцина, в его окружении, на фоне дочери Бориса Николаевича, очень похоже занявшей в иерархии место прежней «первой леди». Борис Березовский вместо Анатолия Лукьянова… Пресса поддразнивала Ельцина всем этим, раздражая его точно так же, как раздражала Горбачева вмешательствами в его личную жизнь. А ведь кроме личного круга никакой защиты не оставалось!
Ах, как можно манипулировать вождями, если отделить их от независимого окружения, а затем ввергнуть в чиновничью паутину и поддразнивать при помощи подручной прессы! Странное дело, но человек, первым позволивший прессе порезвиться без цензуры, Горбачев, стал первым руководителем страны, схлопотавшим столь немилосердные удары гласности в своем собственном доме, а его помощники даже не пробовали смягчить тяжесть ударов. И – что в горбачевском, что в ельцинском кабинетах – нарастали вокруг верховной власти подхалимы из круга старых, всегда готовых на предательство друзей дома. Тут уже семейным кругом не защитишься, такие сдавали и московских самодержцев. В принципе они же разыграли все послесталинские призы; меняется власть, а не принципы ее удержания.
В самом конце восьмидесятых у меня в Московском университете была встреча с читателями; все как положено – в актовом зале, полно народу, ответы на записки. Одна из записок была типичной для той поры: спрашивали, что я думаю о супруге президента Раисе Максимовне. Что можно было ответить? «Вот буду брать интервью у Михаила Сергеевича и передам ему ваш вопрос, мне бы с собственной супругой разобраться…» На следующее утро я по какому-то делу позвонил в кабинет к Ивану Фролову, главному горбачевскому помощнику. Тот сразу пошел в атаку: «Михаил Сергеевич очень обиделся! Ну зачем ты сказал, что хочешь обсудить с ним поведение Раисы Максимовны? Ему уже доложили…» Вот так это и делалось; чиновные стукачи становились все заметнее в ближнем окружении президента. Они, собственно говоря, и не уходили оттуда, да и не сдавали никаких позиций. Только лишь шевельнутся занавески в кабинетах верховной власти или вокруг них – моментально высовываются чиновничьи уши, чиновничьи пальцы, все больше зажимавшие процесс перемен. Я уже говорил, что те, кто ориентирует президента (любого – также американского, парагвайского, всякого), – самые важные люди в стране, государственная шея, способная повернуть голову куда угодно. Было это при Ленине – Сталине, есть это и сейчас. В августе 91-го та же государственная шея поворачивала-вертела горбачевскую голову, а затем ее и вовсе свернула. Аппарат.
У меня хранится несколько толстых блокнотов с записями регулярных накачек-инструктажей у Горбачева или его ближайших сотрудников. Сегодня их особенно интересно листать. Зависимость руководителя страны от его приближенных, от аппарата, нарастала постоянно. Он почти всегда вспыхивал, если задевали кого-нибудь из «ближнего круга», он боялся приближенных и всегда подчеркивал, что не даст их в обиду. Неприятелей крушил, как умел (велел мне думать о серии статей, сокрушающих Ельцина: «Он же идиот, вены себе резал – надо размазать его, раз и навсегда»). Я тогда честно признался, что отказался публиковать ельцинские мемуары, но и лезть в драку с ним тоже не стану. Михаил Сергеевич нахмурился. Постоянно неуверенный в себе, генсек хитрил и нашаривал опоры, которых на самом деле в природе не было. Он готов был сдать и сдавал многих людей, искренне ему веривших, так и не решился встать на сторону интеллигенции, не понял Сахарова, сгонял его с трибуны (предварительно вызволив из ссылки). Он, имея собственные чиновничьи рефлексы, каждому хотел определить в жизни фиксированное, зависимое местечко, а сам был зависим больше других. Он все тянулся к своим, к привычным. Чуть тронешь его клан, чиновничью партийную номенклатуру, Горбачев начинал нервничать. Я нашел в блокнотах старую, очень типичную запись от 11 февраля 1987 года; генсек пылко возмутился, что в одной из статей тогдашняя «Литературная газета» назвала каких-то партийных кадровиков «шелупонью». «Это недопустимо, так нельзя, – шумно кипятился Михаил Сергеевич. – Не унижайте чиновников! Они делают важное дело! Мы не можем как в сепараторе: сюда молоко, а сюда – сливки! Нам всякие люди нужны…» Вокруг него и были, что называется, «всякие люди».
Вспоминаю об очень важном своем контакте с Горбачевым, настолько все в нем было характерно. В феврале 1988 года мы с Евгением Евтушенко поехали выступить в Ленинград. Вечер проходил в огромном дворце «Юбилейный» – несколько тысяч слушателей, много друзей-писателей за кулисами. Короче говоря, зал был «наш», и зал этот очень чутко реагировал на все сказанное. В таком зале врать было нельзя; ни в каком не следует врать, но в таком – особенно. Во время выступления я получил записку, касавшуюся недавней речи тогдашнего министра обороны Язова. По телевизору маршал демонстрировал народу мой журнал, с подчеркнутой брезгливостью на бульдожьем своем личике, держа экземпляр за уголок. «Вот эту гадость, – рек военный министр, – порядочный человек брать в руки не должен, а читать – и подавно!» Что можно ответить на такое? Старательно подбирая слова, не называя фамилий, я сказал, что некоторые руководители умеют окружать себя дураками. «Но надеюсь, – сказал я, – что это ненадолго. Идет разоружение. Я полагаю, что самые большие ракеты и самых больших дураков уберут в первую очередь».
Рано утром на следующий день я возвратился поездом «Красная стрела» в Москву. Заехал домой, переоделся и в десять утра был уже в «Огоньке». А в одиннадцать позвонил Горбачев: «Ты что делаешь?..» Он был со всеми на «ты», а к нему полагалось обращаться на «вы». Их нравы.
На мою растерянную реплику, что, мол, я сижу в кабинете и ожидаю его, Михаила Сергеевича, указаний, последовал не принимающий шутейного тона рык, повелевающий немедленно прибыть в первый подъезд Старой площади, на шестой этаж, к нему! Я тут же отправился на свидание.
До сих пор самое неожиданное для меня в той встрече – густой мат, которым встретил меня тогдашний вождь советских трудящихся. Я кое-что смыслю в крутых словах, но это было изысканно, мат звучал на уровне лучших образцов; до сих пор угадываю, под каким же забором Михаила Сергеевича всему этому обучили. В паузах громовой речи, с упоминанием моей мамы и других ближайших родственников, Горбачев указывал на толстую стопку бумаги, лежавшую перед ним, и орал: «Вот все, что ты нес прошлым вечером в Ленинграде! Вот как ты оскорблял достойных людей! Я что, сам не знаю, с кем мне работать? Кто лидер перестройки, я или ты?!» – «Вы, – категорически уверил я Горбачева. – Конечно же, вы и никто другой!» – «То-то», – сказал генсек, внезапно успокаиваясь, и дал мне бутерброд с колбасой.
Смысловая часть встречи на этом и завершилась. Я жевал кусочек хлеба с начальственной порцией еды и думал, как же это так получилось, что какие-то люди провели в Ленинграде бессонную ночь, расшифровывая мои эмоциональные речи на многолюдном вечере в огромном дворце. Кроме того, речи были немедленно переправлены в Москву, немедля попали на стол к президенту супердержавы; не фиг им делать, что ли? Клянусь, именно эта мысль тогда во мне доминировала. Я хорошо знал круг проблем, сотрясающих страну, понимал, что должна, обязана быть очень серьезная причина, по которой руководитель супердержавы орет на редактора журнала, безусловно не находящегося в оппозиции к нему и его делу.
– Лигачев семнадцать лет в ЦК: тебе кажется, он не подготовлен к своей должности? – орал Михаил Сергеевич, плюясь крошками. – Ты вот и силовых министров вроде Язова терпеть не можешь, а ведь мы вместе лизали жопу Брежневу, все! Это было и прошло, а сегодня надо объединять, а не оскорблять людей!..
Когда Александр Яковлев, прихрамывая, выводил меня из горбачевского кабинета, в дверном проеме он нагнулся к моему уху (знал, наверное, место) и сказал: «Вы понимаете, только что Горбачев вас спас? Сегодня чуть позже будет заседание политбюро, где министры обороны и госбезопасности потребуют снять вас с работы…» До сих пор помню чувство, окатившее меня в момент, когда я понял, что всемогущий мой главный руководитель страны разорялся для чиновничьих микрофонов, установленных у него в кабинете. И матерился он для них, чтобы лучше поняли…
Так начальника перестройки сдавала его команда, ни в каких перестройках не нуждавшаяся, но хранимая им до последнего. Но это ведь лишь начало повести…
Заметки для памяти
Британский премьер-министр госпожа Маргарет Тэтчер приехала в Москву. Меня пригласили на завтрак в ее честь, устроенный британским послом. Элегантная, улыбчивая госпожа премьер прибыла на завтрак с опозданием, но сразу же включилась в беседу, создавая атмосферу застолья.
– Какой, вы полагаете, сейчас период перестройки? – обратилась она ко мне.
– Не знаю, бываете ли вы в кино, – сказал я, – но есть такой трехсерийный фильм, почти классика, называется «Звездные войны». Не помните, как называется его вторая часть?
– Нет…
– «Империя бьет в ответ», у нас сейчас как раз эта стадия перестройки.
– В самом деле? А как называется следующий фильм?
– «Возвращение джедая». Не дай бог…
– Кого-кого возвращение?
– Возвращение, госпожа Тэтчер. В этой стране, что ни вернется – все плохо…
– В самом деле?..
Вот так я пообщался с британским премьер-министром в тот раз.
* * *
В конце семидесятых годов я оказался в Нью-Йорке и разговорился с приятелями из советской миссии при ООН. «Будь осторожен! – предупреждали они. – С твоими демократическими заскоками не попадись одному из верховных наших начальников, Аркадию Шевченко, – во зверь, во ортодокс! Сразу надует телегу в Москву!» Этот самый Шевченко, вечно насупленный коротышка, похожий на перекормленного мопса, был одним из главных советских чиновников-дипломатов, внедренных в штат к Генеральному секретарю ООН, и сие считалось великим достижением секретных служб победившего пролетариата. Еще бы – наш человек в сердце буржуйской дипломатии!
Позже выяснилось, что именно угрюмый ортодокс Шевченко и получал деньги за выдачу всех известных ему пролетарских тайн американской разведке, многие годы выполняя именно ее задания. Платили ему поштучно и помесячно, позже он сам этого не скрывал в мемуарах, как признавал и то, что оплата его очень устраивала. Этот хмурый человечек не так, оказывается, и был недоволен жизнью. Он регулярно закладывал каких-то там советских шпионов, выходивших с ним на контакт, хоть многие полагали, что он и является едва ли не самым главным из них.
В общем, спустя какое-то время Аркадий Шевченко сбежал от советской власти, собственной семьи и своего шефа Андрея Громыко, попросил в Америке убежища, был спрятан на секретных явках ЦРУ, а позже легализовался, написал книгу о своей прежней жизни и зажил припеваючи, а также выпиваючи. Последнее его погубило. В самом конце девяностых он помер; смерть беглого дипломата и шпиона была некрасива, одинока; его не сразу обнаружили в комнате, куда никто, как правило, не входил. В общем, это часть злорадного сюжета для коммунистической прессы под шапкой: «Конец предателя», почему я и не стану в тему вдаваться. Меня удивило другое: уже в 1999 году я прочел интервью с дочерью Шевченко, которая давно переехала к папе в США и с тех пор там живет-поживает. Дочь не обсуждала отцовских принципов, она только позавидовала ему, вздохнув на тему: «Вот человек устроился!» Дело в том, что ООН, где Шевченко прослужил долго, платила ему около тысячи долларов пенсии ежемесячно, зато Центральное разведывательное управление США, с которым он сотрудничал меньший срок, – целых пять тысяч в месяц. Чиновник-дезертир устроился великолепно, потому что вовремя нашел именно того работодателя, с которым выгоднее сотрудничать. О прочих подробностях, как я уже заметил, речь не шла. Интересно, что в американской русскоязычной прессе почти все некрологи свелись в основном к разговорам о том, что чиновник вовремя сделал выгодный выбор. Некий выпускник Московского института международных отношений по фамилии В. Война написал в калифорнийской газете, что все знакомые ему советские дипломаты мечтали о чем-то подобном. Но одному из них, чиновнику Аркадию Шевченко, таки да повезло…
Глава 2
Это продолжение предыдущей главы и в то же время ответ на вопросы, которые мне задают очень часто и до сих пор: как мне работалось в «Огоньке» и почему я покинул журнал.
Одно из главных несчастий бывшей Советской страны заключалось в том, что слишком многие в ней были заняты не своим делом. Причем я вовсе не имею в виду, что людей этих делу не обучили. Беда была в том, что люди по обязанности занимались тем, чего не любили и что им зачастую было противопоказано по характеру, по роду привычек. Но люди не сами решали, чем бы заняться: их посылали, или, как говорилось у нас, «бросали» то на целину, то на торфяные разработки, то на исправление дел в балете. Когда сегодня общими словами пытаются исчерпать такие понятия, как «советский чиновник» или «номенклатура» (высшее подразделение этих чиновников), не всегда помнят, сколько разных людей объединялось в этой советской клетке красного цвета – далеко не все они были счастливы. С какого-то времени и в ЦК появились чиновники чуть иные, искавшие дружбы в среде творческой интеллигенции, вздыхавшие то об американских стандартах, то о деревушках в российской глубинке. Была в этом наигранность, но была и растерянность людей перед все более сложным делом, с которым они не могут справиться. Были и другие, всегда считавшие, что служебное положение дает им право выносить окончательное суждение по всякому поводу. Их можно было назначать кем угодно, и везде они, что называется, землю рыли, окружая себя страхом и ненавистью.
Здесь есть еще одно обстоятельство. Известный математик Игорь Шафаревич, написавший кроме научных работ немало ерунды на темы общественно-политические, одно из исследований посвятил размышлению о том, каким образом люди и животные узнают друг друга, как тянутся «свой к своему», по каким неуловимым нюансам отличают членов собственной стаи от всех остальных. Интересная тема. Я не раз наблюдал у людей определенного пошиба, в частности у номенклатурной публики, умение мгновенно находить своих в самом затолпленном помещении. И напротив, мне приходилось подолгу работать с людьми, делавшими вроде бы одно дело, но не подпускавшими никого ближе, не ощущавшими душевного контакта ни с кем. Всякий раз что-то их останавливало, не давало сблизиться, сигнализировало: «Чужой!» В советской тревожной жизни эти качества развивались; узнавание своих и чужих было предельно важным для самосохранения. Но общество было неоднородным; случайные отношения, временная необходимость сбивали людей в нестойкие группы, и однажды номенклатурная публика могла временно оказаться в совершенно не своем окружении. Тогда они – на рефлексах, как цыпленок, сокрушающий скорлупу, – прокладывали свои пути в мир и друг к другу, пробивались «свой к своему». Не все из этих людей были лидерами, но все быстро очерчивали свои жизненные пространства, делая, казалось бы, самые обычные дела – выполняя поручения. Люди эти были нужны: всегда и несмотря ни на что.
Более того, перемены, обрушившиеся на страну и в дальнейшем сокрушившие ее, показали, что государству была очень нужна новая бюрократия. Прежних чиновников, с несколькими (у каждого) поколениями малограмотных пламенных революционеров в роду, должны были сменять и сменяли чиновники нового разлива. Они уже постигли собственную значительность и раньше других поняли, грубо говоря, возможность заработать на переменах. Я, конечно, совсем уже упрощаю, но развитие событий показало, что это не столь уж и неверно. В общем, дальше упомянутый эксперимент я ставил на самом себе, потому что взял одного из таких деятелей своим заместителем в «Огонек». Он был всем хорош: мог бы работать в пивном ларьке, быть директором бани или руководить текстильной фабрикой. Но так получилось, что человека этого однажды повернули лицом к пропаганде и прессе. Там-то я и отловил его, отыскивая не столько журналиста, сколько организатора, менеджера, которого в редакции не было. В ту пору мне нужна была еще и ступенечка в московский чиновный мир, с которым приходилось работать. Если с писателями-актерами-художниками проблем не было, то делать дела с чиновниками я не мог без одного из «ихних», зама-администратора. Я объявил поиск. Несколько человек подряд вскоре же мне сказали, что в «Комсомольской правде» работает чиновный замглавного, которого в редакции не любят. Человек этот числится на журналистской должности, но журналистику не жалует; сам он экономист, имеет организаторский опыт. Вот такой-то мне и был нужен. То, что его не любили, – ничего страшного, не кинозвезда, зато за плечами у Льва Гущина кроме экономического диплома была работа в газетах «Московский комсомолец» и «Советская Россия». Там, по рассказам, он пыхтел над делами не столько творческими, сколько административными, что меня и устраивало больше всего. Дальше шла полоса слухов: кто-то прибегал сообщить, что Гущин сотрудничает с КГБ, кто-то наушничал по другим поводам. Но у меня к тому времени уже зубы болели от либеральной паранойи по поводу неукротимой и всемогущей тайной полиции; даже если это окажется правдой, то незачем будет ломать голову над тем, кто же «стучит» из журнала, – все равно ведь кому-то это дело поручат. Короче говоря, я никого не послушал, пригласил Гущина для беседы и взял его заместителем. Начальство утвердило кандидатуру без разговоров. Сразу же мы условились с новым замом – он панически об этом просил, – что он не будет читать ничего из материалов, готовящихся к печати, особенно по искусству. Удел нового заместителя – дела сугубо хозяйственные, административные.
Он это и вправду умел очень хорошо: организовать вечер, снять зал для встречи с читателями, заказать стаканы с эмблемой журнала, устроить редакционное чаепитие. Мне никогда прежде не приходилось работать с человеком, который в творческом коллективе был бы хозяйственником, воплощающим номенклатурное устройство советской жизни. Гущин, бывший секретарь Краснопресненского райкома комсомола Москвы и недавний сотрудник большевистской «Советской России», ничего не знал о литературе и искусстве, поскольку в его обязанности никогда не входило что-нибудь знать об этом. Я уверен, что, если бы ему велели, Гущин бы освоил в нужном объеме и это, но ему пока никто не велел. Иногда он, впрочем, предлагал поместить на обложку портреты кинозвезд и художников. Именно эта, декоративная, функция была для него в искусстве едва ли не самой важной. Если же речь шла о смысле и других премудростях, мой зам просил его не беспокоить – не по его части, мы же договорились на этот счет… Он, по райкомовскому обычаю, считал любые попытки выяснить смысл жизни через искусство и литературу делом сомнительным, панически боялся писателей и того, что они приносят в редакцию. Прятался, когда в конце коридора появлялся очередной мастер изящной словесности с папкой под мышкой. Мой зам не обязан был разбираться и в музыке, но со времен работы в «Московском комсомольце», где была рубрика «Звуковая дорожка», он запомнил двух рок- (или поп-, я путаюсь в этих классификациях) исполнителей, Макаревича и Гребенщикова. Если речь шла о том, что надо бы, мол, дать что-то о музыке, Гущин предлагал одного из этих двух; мне он сказал, что остальных не знает и не стыдится этого. Так партийные начальники не стыдятся, что знают лишь одного-двух писателей и две-три картины художника Репина-Шишкина.
Впрочем, с первых дней Гущин забурчал по поводу крупных репродукций и больших литературных материалов в «Огоньке», но когда я убедил его, что за это все равно спросят с меня, успокоился и даже повеселел. Я все к тому, что человек этот ни в коем случае не был злым гением; еще раз повторю, что он был чиновником, а российское чиновничество безыдейно. Но оно все прошито, связано общими нитями, круговой порукой; чиновники разных ведомств, в том числе и гэбэшного, искренне помогают в общем деле друг другу. В настоящее время общим делом стало добывание денег, и они служат Большому бумажнику с той же преданностью, с которой недавно служили красному флагу.
Более того, какое-то время вреда от Гущина почти не было – пока он занимался тем, что было ему поручено. До чего же важно, чтобы у каждого человека было свое точное место в жизни, но важно и чтобы он это место хорошо знал! Надо признаться, что и мне (вполне в горбачевском стиле) нравилось иметь в заместителях этакую «серую мышь», вроде бы не претендующую ни на особую популярность, ни на собственные взгляды по основным вопросам (так мне казалось первое время). Мы с Гущиным совместно набирали на работу новых людей, стараясь, чтобы это была молодежь поталантливее. С кем-то пришлось и распрощаться, не без этого. Помню, как пришел ко мне один из журналистов прежней, софроновской, школы «Огонька» Андрей Караулов, этакий ласковый, втирушечный, предупредительный. Все было хорошо в нем, кроме скользкости, этакой постоянной намыленности и готовности выполнить любое задание. Только, мол, прикажите-укажите – разорву кого скажете! У него со многими были собственные счеты, которые постепенно начали сводиться через журнал; в общем, я пригласил его и попрощался. После «Огонька» он приживался еще во многих местах, написал книжки. Но я никогда не жалел о расставании – деловых людей я мог брать каких угодно, у них служебные функции, но журналистов хотелось брать только тех, на кого бы я смог положиться. По этой же причине мы расстались с репортером Феликсом Медведевым, пронырливым, но очень уж торопливым. Такие когда-то писали о кошке, спасенной из пожара, или о пьянице, оказавшемся под пролеткой. В новом «Огоньке» места им не было…
Одного человека Гущин привел с собой, это был Валентин Юмашев, ельцинский друг дома и способный журналист. Собственно, журналистом он был по призванию, потому что диплом о соответствующем образовании так и не сумел получить. Он учился на очном, заочном и всех, какие бывают, вариантах факультета журналистики, но так и не довел учение до стадии защиты диплома. Ну что же – практик так практик. Тем более что Юмашев получил в подчинение отдел писем и сделал его отлично работающим подразделением журнала. Шутка ли, в «Огонек» приходило до тысячи писем в день, и разобраться с ними бывало вовсе не просто. Более двадцати женщин пыхтели над конвертами день и ночь. Позже выяснилось, что не только они. Но это уже другая история.
Собственно говоря, обо всем я узнал не с самого начала, а, так сказать, начиная с итогов. По приглашению какого-то французского журнала я оказался в Париже и зашел в издательство «Галимар». Обсудил там собственные писательские мечтания, собрался уходить, но в это время пришли из бухгалтерии и сказали мне, чтобы я передал Гущину с Юмашевым: гонорар уже переведен в Москву. Я ничего не понял. Юмашев писал немного, а Гущин вообще ничего не писал, кроме протоколов на партсобраниях и докладных записок, – какой гонорар? Тогда мне показали книгу, составленную из писем. Гущин с Юмашевым, оказывается, провернули целый бизнес, создавая и продавая зарубежным издателям книги читательских писем в «Огонек». Идея была вовсе не плохой, и, когда я спросил в Москве у своего зама, почему она осуществляется втихаря, тот ответил, что как-то не удавалось поговорить со мной, но следующие издания они запланировали выпустить с моим предисловием. В «Галимаре», мол, был пробный камень – сами не ведали, как получится. Ну ладно, тогда я сказал, что из Парижа им переведены гонорары, Гущин с Юмашевым испугались, ринувшись на их поиск, что во все времена в Москве было делом почти бессмысленным. Позже Гущин пришел ко мне в кабинет и заговорил о сокровенном: что деньги надо делать, время сейчас такое. Он показал мне кредитную карточку лондонского банка (в то время великую редкость в Москве, Гущин звал этот банк «Барклай») и сказал, что может устроить такую же для меня. В Лондоне, мол, у него уже есть зарегистрированное дело. Так у меня с заместителем получился едва ли не единственный разговор «о личном». Неудачная попытка, потому что я, естественно, удивился, что в журнале ничего о делах и счетах не знают, и сообразил, что мне предлагают вступить в долю с партнерами посерьезнее, чем удалые сотрудники «Огонька». Впрочем, с самого начала мне казалось, что все эти счета и карточки вряд ли могли быть организованы без соответствующих позволений. Но это на моем уровне недоказуемо, так что пусть останется в сфере предположений. Что я знаю наверняка: спецчиновники любят и умеют устраивать для себя спецпартии и спецкормушки, почти не прячась – «свой к своему». Жизнь била ключом…
Что еще интересно: чиновники в любой среде вначале пробуют завоевать и отгородить свою независимую территорию, а затем принимаются ее расширять. Гущин с Юмашевым теперь уже почти постоянно были заняты какими-то делами, о которых я в дальнейшем узнавал случайно и не от них. Вдруг ко мне примчался сотрудник «Крокодила» Виталий Витальев (позже он эмигрировал в Австралию и неплохо там устроился); оказывается, на английском вышла книга избранных статей из журнала (Витальев регулярно публиковался в «Огоньке»), а ему ничего не заплатили. «Присылайте его и других ко мне, разберемся и доложим», – сказал Гущин. Как-то договаривались… Когда я в следующий раз оказался в Париже, мне там передали конверт с гонораром за перепечатки из «Огонька». По возвращении я его надлежащим образом оприходовал и сдал в бухгалтерию под положенные расписки. Мой зам пожал плечами: «Зачем?» Он сосредоточенно продолжал разворачивать предприятия вокруг журнала. Я бы ничего не имел против, если бы это приносило ощутимую пользу для всех сотрудников. Между тем множились вокруг какие-то фонды для борьбы с ужасными болезнями. Фонды освобождались от пошлин, но для несчастных больных завозили телефоны и телефаксы, о которых я тоже узнавал случайно. Я закрывал эти фонды один за другим, но они возникали под другими названиями и в других местах. Мне раз за разом объясняли, что время сейчас такое – хороший чиновник может хорошо заработать, ничем не рискуя. «Да и прикрытие, – вполголоса добавлял мой заместитель, – у нас тоже есть». А я представлял себе наш чистый журнал в центре шумной аферы и, вздрагивая, отказывался. С моим заместителем мы все больше оказывались как бы в разных измерениях, убежденные в собственной правоте – но по отдельности каждый. Вокруг журнала возникали целые базарчики, соединенные с «Огоньком» только лишь его добрым именем, под которое можно было тогда получить все, что угодно. Денежные заботы поглотили моего заместителя полностью, и пришлось для работы взять еще одного. Выгнать прежнего? Как и зачем? Все становилось похоже на борьбу с тараканами в коммунальной кухне, где кажется, что усачи приходят и уходят, когда им вздумается.
Почти все пошло в открытую. В журнал захаживали какие-то серьезные люди с военной выправкой и стальными глазами, но стучались они к моему заму, а не ко мне, и, что странно, рукописей не приносили. Не знаю, откуда они были, может быть, это и хаживала та самая «крыша»? Многие идеи моего заместителя все больше совпадали с рекомендациями, внушаемыми мне на регулярных втыках в КГБ, но и это вполне могло быть случайным совпадением. Мне надоела либеральная мания преследования, да и время резко поменяло свои стандарты. Кроме того, Гущин был работником номенклатурным и, даже решившись переместить или уволить его, я должен был бы согласовывать и объяснять это сто раз, да еще и в письменной форме. Представляю себе эту склоку!
Я уже говорил вам об универсальности чиновничьего счастья. Ситуация в «Огоньке» один к одному повторяла происходящее в российском правительстве. Загадочные решения, высокие интересы… При этом ежу понятно, что многие руководители «дуют на сторону», «гребут под себя», пылко рассуждая про народное благо. Люди эти оглашают лучшие намерения, пекутся об общем процветании, но, странным образом, благ прибавляется только у них самих. Убрать таких людей невыносимо сложно, потому что каждый укреплен в сети взаимовыгодных связей, которая способна поддерживать очень долго. Большинство удач моего зама естественно вписывалось в общегосударственный стиль, потому что было «лично его»; огоньковская ситуация напоминала общегосударственную, так как строилась по одинаковым правилам. Я упустил вожжи (или рысаки были уже не по мне). Увы, и я, и многие российские руководители с большим опозданием поняли, насколько важно держать процесс под контролем. Государство Российское сегодня не очень спешит принимать законы, нормирующие чиновничьи выкрутасы. Если в Америке чиновника могут снять с должности за несколько бесплатных билетов на баскетбол, полученных им в подарок, то в России, как вам известно…
В общем, то, чему я противостоял несколько лет назад в отдельно взятом журнале, сегодня разбушевалось в масштабах большой страны. Процесс последователен и пока что неостановим…
А дел у меня хватало и, кроме этого, на журнал жали со всех сторон, я беспрерывно ездил на очередные накачки; в родимом Верховном Совете провели специальное заседание комиссии по обороне, чтобы заклеймить мое непатриотичное поведение (помню, как тетка с депутатским значком орала, обращаясь к присутствующим генералам и тыча пальцем в меня: «Да не слушайте вы этого щелкопера!»). Председатель КГБ Крючков вызвал меня на Лубянку и крыл не только лично от себя, но и от имени Горбачева («Михаил Сергеевич поручил предупредить вас!..»).
Взрывы общегосударственных конфликтов отражались на страницах журнала. Хирели в стране искусство и литература; Гущин тоже считал, что литература с искусством – дело неприбыльное, а значит, десятое; конфликты между моим замом и теми, кто вел раздел литературы и искусства, участились. Конфликтовать начал и я, тем более что самые общественно острые материалы шли через эти отделы – начальственное возмущение давно уже проливалось на них. Но чиновники умеют достигать своего. Они отлично знают, чего хотят; причем какими-то невидимыми нитями связывают свои желания в единый клубок и на глазах усиливают друг друга. Серые начинают и выигрывают – истина, которая слишком уж часто подтверждается.
В журнале сложилось как бы два центра. Один продавал-покупал, принимал загадочных визитеров со стальными глазами и завозил во все еще нищую страну некие нужные ей товары. Другой – поддерживал либеральную репутацию еженедельника. Эта репутация оставалась высокой: я подряд получил несколько очень важных международных премий; цитаты из «Огонька» фигурировали во всех сводках авторитетных мнений, составляемых мировыми агентствами. Очереди за журналом в Москве выстраивались спозаранку по-прежнему, но делать его было все труднее.
Я говорил уже, что чиновники обладают замечательным качеством: они, как раковая опухоль, постоянно стремятся врасти во все окружающее. Редакционные конфликты множились; Гущин уверенно подчинял себе издательское дело, видя в нем чистый бизнес; так, наверное, можно производить шахматные фигурки, не умея играть в шахматы. Что же, пользуясь формулой из газеты «Правда», можно было сказать, что новые отношения врывались в старые стены. Разворачивался и уходил из-под контроля рекламный бизнес, возникла и прикрылась видеопродукция. Самое обидное, что постепенно журнал переставал быть тем ансамблем единомышленников, который и принес ему славу. Отношения с заместителем становились хуже и хуже; я ощущал, как все больше устаю от его неутомимости.
Не хочу утомлять вас подробностями. О том, например, как после всех правок и читок в статью о моем приятеле, хорошем певце Иосифе Кобзоне, вдруг вписывалась глумливая фраза. Куда-то исчезали важные, очень острые материалы, а один из них, заказанный мной в Израиле у писателя Юрия Милославского, оказался так изуродован, что мне до сих пор перед человеком стыдно. Я не успевал всего делать сам и понимал, что упускаю вожжи редакционного дилижанса. Меня уже начали обманывать почти в открытую; один случай был особенно неприятен.
Я оказался в Нью-Йорке одновременно с известным российским мракобесом, генералом Филатовым, главным редактором «Военно-исторического журнала». Журнал этот был изданием откровенно черносотенным, начал печатать даже главы из «Майн кампф» Гитлера, как рекомендованное чтение для армейских патриотов. Но в Америке (что с этой публикой частенько случается) генерал-редактор (позже он, кстати, поработал и пресс-секретарем у Жириновского) начал угодливо стучать хвостом. На одном из каналов нью-йоркского общественного «Паблик радио» он дал интервью, где поведал, что главной задачей советского вторжения в Афганистан было, оказывается, отсечь исламскому миру пути дальнейшего продвижения на Запад, спасти ближневосточных друзей Америки и укротить Иран. Знакомый американец-редактор с радио переписал мне пленку с интервью, а я с оказией отправил эту пленку в двух экземплярах в «Огонек», приказав немедленно расшифровать запись и опубликовать. Через день позвонил и убедился, что копии пленки получены и Гущиным, и Юмашевым. А через пару дней, раньше, чем меня ожидали, я сам возвратился в журнал. Примчался в редакцию, спрашиваю о материале: Гущин и Юмашев, потупясь, но в один голос, отвечают, что пленки куда-то пропали. Обе сразу, из запертых сейфов… Позже мне рассказали, что генералу Филатову была выволочка за американскую болтовню, но мне от этого легче не стало. С некоторых пор любой, даже самый недолгий мой отъезд из «Огонька» таил опасность для репутации журнала.
Вдруг пожаловался Юрий Никулин. Добрейший человек, замечательный клоун, он в предисловии к последнему своему сборнику анекдотов писал, что это я надоумил его публиковать «Анекдоты от Никулина» и сам придумал название рубрики. Действительно, это был я; мой интерес был предметным, профессиональным, мне нужна была именно такая рубрика в «Огоньке». Но мой зам шуточек не любил и начал анекдоты саботировать. Когда я был в редакции, все шло нормально, а стоило уехать – Никулин жаловался, что его анекдоты перевираются в наборе, а уже набранные теряются…
Можно и, наверное, нужно было бы наказать подчиненных – и не один раз. Но после этого война пошла бы в открытую; не уверен, что тогда бы я ее выиграл. Да и трудно противостоять чиновникам, тем более номенклатурным, неразъемно связанным с властью. Ощущение усталости нарастало во мне, опускались руки, атаки же на журнал накатывались одна за другой. Московский корреспондент газеты «Вашингтон пост» Давид Ремник назвал статью обо мне «Коротич – громоотвод перестройки». А страна уже ходила ходуном в это время, Ельцин рвался в Кремль. Всегда корректный Юмашев объяснял мне, что любое прикрытие нам будет обеспечено именно ельцинскими людьми, поэтому надо их поддерживать где возможно. Но я-то был из другой команды, а вернее, пытался играть сам по себе.
Другие электронные книги автора Виталий Алексеевич Коротич
Застолье в застой




 1.67
1.67