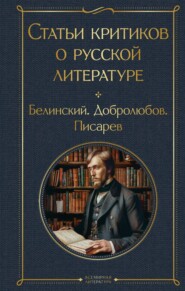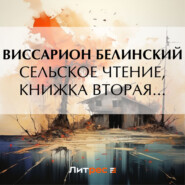По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Письма (1841–1848)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Всё бы хорошо, если б не твоя болезнь. Прощай. Жму и целую твою руку, прошу и умоляю тебя, милая Marie, береги себя, помни, что ты больше не принадлежишь себе. Когда я уезжал, вы все пророчили, что я и простужусь, и обожрусь, и обопьюсь; а вышло не так: я берег себя и был осторожен – могу похвалиться этим. Мое здоровье всё улучшается, а ты больна, конечно, от простуды: но сколько же ты прибавила к ней от себя, и как помогаешь ты ей доканывать себя – бог тебе судья!
Вчера мы с М<ихаилом> С<еменовичем> пили шампанское за здоровье Ольги, о чем и прошу уведомить ее.[873 - 13 июня – день рождения О. В. Белинской.]
15 июня
В Харькове опять тепло. Третьего дня пошел теплый дождь – и стало тепло. Харьков был первый город, в котором на этой дороге встретился я с мухами и блохами, а вчера вечером (чудный вечер – так и парило!) укусил меня первый комар, которого я от радости тут же и раздавил. Что за пыль в Харькове! Ужас! Меня печалит мысль, что ты долго не получишь моих писем. Твои шли ко мне – первое, кажется, 17, а второе 15 дней. Чего ты ни надумаешься в ожидании! Это письмо пойдет по экстрапочте, и потому не мудрено, что ты получишь его прежде первого, которое пошло к тебе в середу (12).
Завтра в ночь едем в Екатеринослав, через неделю будем в Одессе. Пиши туда на имя Александра Ивановича Соколова (в Одессе). Еще раз прощай, друг мой. Желаю тебе всего хорошего, а больше всего здоровья и терпения, терпения и здоровья.
Твой Виссарион.
271. М. В. Белинской
Одесса. 1846, июня 24, понедельник
Мысль о твоей болезни, ch?re Marie,[194 - милая Мари (франц.). – Ред.] так мучительно беспокоит меня, что мне тяжело писать к тебе. К этому присоединяется еще та мысль, что до сих пор ты не получила от меня ни одного письма со времени моего выезда из Москвы. При твоей обыкновенной мнительности в соединении с болезнию это обстоятельство должно быть для тебя истинною пыткою. То я болен, то умер, то забыл свое семейство до того, что и знать о нем не хочу, то мне скучно и я страдаю, то мне весело и я до того наслаждаюсь всеми благами, что мне вовсе не до жены, – вот мысли, которые денно и нощно вертятся у тебя в голове и грызут тебя. Я это знаю хорошо, потому <что> знаю тебя хорошо, не говоря уже о том, что на твоем месте и всякая другая женщина, хоть и не так, а всё бы не могла не беспокоиться. Я и сам, до получения от тебя письма в Харькове, чувствовал себя неловко, и хотя это письмо было и неутешительно, но всё-таки оно избавило меня хотя от чувства неизвестности, которое теперь опять мучит меня. Рассчитываю по пальцам, и всё выходит, что мои два письма из Харькова (от 12 и 15 июня) ты должна получить не прежде 28 числа, т. е., еще через 4 дня по отсылке вот этого письма; а когда получу от тебя письмо – не знаю. Я, впрочем, несмотря на это, живу недурно, даже больше весело, нежели скучно, потому что мысль о тебе и твоем положении вдруг набегает на меня, как волна на корабль – качнет и рванет, и отхлынет. Такие минуты довольно часты и очень тяжелы; но я гоню от себя черные мысли, как солдат на сражении, который всё-таки думает: авось не убьют, и с отчаянною храбростию слышит свист пуль. Я думаю: если худо, еще будет время отдаться мукам страдания, а если хорошо, то нечего заранее напрасно себя мучить и терзать. Здоровье мое очень поправилось: я и свежее, и крепче, и бодрее. Что же касается до кашлю, – в отношении к нему я сделался совершенным барометром: солнце жжет, ветру нет – грудь моя дышит легко, мне отрадно, и кажется, что проклятый кашель навсегда оставил меня; но лишь скроется солнце хоть на полчаса за облако, пахнет ветер – и я кашляю. Впрочем, сильные припадки кашлю оставили меня уже с месяц. Вообще же, если бы я получил от тебя письмо, из которого бы увидел, что ты здорова и спокойна, Ольга попрежнему дует молоко, как теленок, здоровеет, полнеет, начинает ходить, лепетать, Агриппина находится в добром гуморе и вы с нею бранитесь только слегка, и то больше для препровождения времени, – я бы начал жить, как давно уже не жил, да и надежду потерял жить. Но когда я получу от тебя письмо (если бы и предположить, что оно будет так благоприятно, как бы мне хотелось): мое получишь ты 28, свое пошлешь, положим, 30-го июня, а получу я его и не знаю когда – недели через три. Наделал же я дела, пославши тебе письмо из Калуги в Гапсаль!
Из Харькова выехали мы в воскресенье, 16-го, в ночь, часа в три. Накануне, в субботу, Кронеберг участвовал в пикнике, который затеяли его знакомые. Заметив, что тут будет много незнакомых рож, которые, кажется, на меня и собирались, я отказался, хотя меня и сильно упрашивали. С пикника Кронеберг провожал одну даму, на ее лошадях, и лошади понесли их с страшной горы; жизнь сидевших была на волоске, Кр<онеберг> выпрыгнул счастливо, только ушиб колени и подбородок, и на другой день я увидел его с подвязанным лицом. Дама тоже отделалась легким ушибом; только кучеру досталось порядком. Пикник их был скучен, и я поздравил себя, что не поехал на него. В тот же вечер (в воскресенье) Кр<онеберг> был очень озабочен и сказал мне, что его Коля тяжело болен. У него была корь, она прошла, но после нее сделалось воспаление: такое теперь, говорят, поветрие. Не знаю, что теперь у них делается. А девочка их – ничего; здорова и смешна, как следует быть ребенку, даже довольно жива.
Из Харькова выехали мы, как водится, с дождем и довольно холодною погодою. Во время спектакля шел сильный дождь, обративший страшную пыль в порядочную грязь. Мы направили наш путь на Екатеринослав. Погода скоро поправилась, и стало светло, хотя и холодно, за исключением полдня, когда пекло солнцем. На одной станции мы принуждены были ночевать, прождавши лошадей ровно 12 часов. Во вторник, часов около 8 вечера, прибыли в Екатеринослав. Этот город, как все города в Новороссии, построен Потемкиным, который хотел из него сделать южную столицу России. И было где! Екатеринослав стоит у Днепра,[195 - Первоначально: на берегу Днепра] на высоком берегу; Днепр обтекает его полукругом и в этом месте шире Невы. Город чрезвычайно оригинален: улицы прямые, широкие; есть дома порядочные, но больше всё мазанки, по улицам бродят свиньи с поросятами, спутанные лошади. Город кишит жидами. На огромной (незастроенной) площади стоит храм, довольно большой; но он занимает только место алтаря по прежнему плану. Потемкин хотел его строить на целый аршин кругом шире собора Петра и Павла в Риме – величайшего в Европе храма. Но он умер, и с ним умерли все его исполинские планы. На той же площади стоит дворец Потемкина, в котором он принимал у себя императрицу Екатерину и австрийского императора Иосифа II. Середина дворца ресторирована для дворянского собрания, а боковые здания находятся в состоянии развалин. При дворце сад, омываемый заливом Днепра, в саду много деревьев, которые не могут расти в московском климате и которых нет и в Харькове (хотя от Харькова до Екатеринослава только 200 верст), например, шелковичное дерево и др. Интересен также казенный городской сад. В нем одних яблонь до 49 родов, акаций до 30 родов, много разных американских растений. Всё это смотрели мы на другой день приезда; погода была чудесная, я много ходил – и не уставал, и вид этой природы и чудного местоположения упоил меня. Отобедавши у одного знакомого М<ихаила> С<еменовича>, в 5 часов вечера мы выехали из Екатеринослава. Проехали через Херсон (довольно дрянной городишко при днепровском лимане, т. е. заливе); от него поворотили параллельно морю, от востока на запад, ехавши до того времени прямо от севера на юг. Жаль, что через Николаев проезжали ночью. Город большой, портовой, стоит он при слиянии Буга с Ингулом, образующем реку шириною верста и 70 сажен.[196 - Первоначально: аршин] Переправлялись на баркасе с парусом и на веслах; ночь была чудная, месячная. На другой день (в субботу, 22) за 30 верст от Одессы завидели Черное море, по берегу которого столько верст ехали, не видавши его. В Одессу приехали в 2 часа. Оригинальный город! Чисто иностранный, с итальянским характером. Наш трактир на берегу моря, берег высокий, вдоль его идет бульвар, вниз к морю идет каменное крыльцо, с большими уступами, в 200 ступенек. По этой лестнице ходят купаться в море. На море корабли, суда. Вид единственный! А что за гулянье по этому бульвару в тихую, теплую погоду, лунною ночью! Боже великий! Когда в Одессе жары, жители днем спят, а ночью гуляют. Днем пыль страшная, и многие дома (и наш трактир) сделаны с жалузи, которые днем и не открываются по причине страшной пыли. Есть в Одессе Пале-Рояль – четвероугольное здание, с садиком внутри, с галереею кругом, с 3-х сторон, – с 4-й ход в театр. Тут лавки с модными товарами, кофейни, кондитерские, в галереях всегда народ, сидят на скамейках, на стульях, перед маленькими столиками, пьют кофе, шоколад, лимонад, оршад, едят мороженое. Всё это довольно пестро, живо. Для меня одно скверно: нельзя купаться в море – вода страшно холодна. Это странное море – вода в нем холодеет от южного ветра, который ее выворачивает со дна, а при северном теплеет. Дня за три до нашего приезда вода была тепла. Впрочем, нынешний год весна и лето в Одессе скверные, как и во всей России. Оно, коли хочешь, тепло, даже жарко, но ветер холодный. Теперь, спасибо, вечера очаровательны; поэзия, чистая поэзия!
Приехавши, я взял ванну, теплую, из морской воды; меня от нее страшно расслабило – едва на ногах держался целый день. Завтра возьму похолоднее. Сдуру вымыл голову морскою водой – 4 раза мылил, а грязи всё-таки не смыл, потому что соленая вода уничтожает мыло. От смеси оставшейся в волосах грязи с морскою водою моя голова до сих пор словно смолою вымазана.
Шью себе сертук в Одессе. Неимение сертука в дороге было для меня истинною пыткою. Без фрака было бы во 100 раз легче обойтись. В Одессе всё страшно дешево.
Мы проживем в Одессе недели две, а может быть и три, и я надеюсь получить от тебя письмо в ответ на мои харьковские; а если не получу, А. И. Соколов перешлет их в Крым.[874 - Соколов Александр Иванович, одесский чиновник, близкий к литературным кругам, бывший студент Московского университета. См. о нем письмо 273 и письмо Огарева к Грановскому от 28/VI 1849 г. («Звенья», I, 1932, стр. 149). Повидимому, Белинский имел к Соколову рекомендательное письмо из Москвы (может быть, от Герцена). Сохранилось одно письмо Соколова к Белинскому от 2/VIII 1846 г., после отъезда Белинского из Одессы (БКр, стр. 274–275).]
Пиша это письмо, я всё жрал вишни. Пока из плодов только и есть. Впрочем, в Екатеринославе отведал дыни.
В пятницу мне будет весело от мысли, что наконец-то получила ты от меня мои письма. О, если бы они застали тебя выздоровевшею!
Но пока прощай. Из Одессы ты получишь от меня еще письма два или три, смотря по тому, сколько времени проживем мы в ней. Целую тебя и Ольгу и кланяюсь всем вам.
Твой Виссарион.
Это письмо пойдет сегодня же, по экстрапочте.
272. М. В. Белинской
Одесса. 1846, июня 28
Если только мои письма из Харькова не пропали на почте, то ты их уже получила сегодня, вчера или даже три и четыре дня назад. Но от тебя ни строки. Неужели ты после двух своих писем не послала еще ни одного в Харьков? Страшно подумать! потому что без особенной причины ты едва ли бы стала так долго не писать. Хорошо бы, если б это потому, что ты хотела сперва дождаться ответа от меня, считая меня без вести пропавшим. Однако ж я всё надеюсь и жду: авось Кронеберг перешлет мне твое письмо из Харькова. Если ж нет – буду крепиться и ждать ответа от тебя на мои харьковские письма, ждать их до половины будущего месяца, до 20-х чисел его, а там уж, конечно, если не от тебя, так от других услышу что-нибудь о тебе. А пока буду писать в предположении, даже в уверенности, что всё хорошо, что ты теперь поправилась, а мои письма из Харькова успокоили и развеселили тебя.
Со вторника (на другой день по отправлении к тебе первого письма моего) в Одессе наступила летняя погода. Не знаю, сколько именно градусов, но уверен, что на солнце не меньше 35. М<ихаил> С<еменович> весь так и плывет; меня этим еще нельзя пронять, но бывает и мне тяжело. Потею чуть-чуть (потому что днем не выхожу), но иногда даже лежать трудно, не только сидеть. Спим с отворенным окном, и я накрываюсь ночью моим салфеточным халатом – и то жарко. Но что за вечера! Что за луна! На одесском бульваре ночью, при луне, над морем, поневоле становишься романтиком: грудь ноет, а на душе так сладко, светло и ясно, хочется плакать, сам не зная о чем и отчего, на глазах кипят слезы, а в уме никакой определенной мысли. Смешно, право! Пале-Рояль – очарование, особенно вечером. Кругом магазины, с широкими галереями, с асфальтовым полом, внутри садик, горят огни; мужчины, дамы гуляют, сидят, болтают, пьют, едят. Хожу я настоящим аркадским пастушком: в белых панталонах, в жилете, легком платке на шее и белом пальто, прюнелевых сапогах и соломенной шляпе – да и то жарко. Сегодня в первый раз купался в море – хорошо. Вода вблизи зеленая, попадает в рот – солоно. В Одессе у М<ихаила> С<еменовича> есть доктор, короткий знакомый, прекрасный человек и искусный врач. Он меня расспрашивал о болезни, дал наставление, как купаться, и только потому не дал лекарства, что не нашел этого нужным. Он вместе с нами едет в Крым. В Одессе мы пробудем еще с месяц, а может быть, и больше. Из Одессы поедем в Крым морем, а там опять начнем колесить и кочевать из города в город: М<ихаил> С<еменович> заключил условие с одним содержателем труппы[875 - Содержатель труппы – известный актер-комик Жураковский, давний знакомый Щепкина (см. о нем воспоминания Шмакова в сб. «Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 396).] и будет играть у него в Симферополе, Севастополе, Херсоне, Николаеве, Елисаветграде и не знаю, где еще – всего 41 спектакль.
В понедельник вечером вздумал я купить себе в Пале-Рояле дюжину фуляров, за которую заплатил 20 р. серебром. В Питере дюжина таких платков (большие, прочные, плотные) стоила бы рублей 30, если не больше. Да вздумалось мне кстати купить что-нибудь для тебя и Агриппины, и купил я вам по полудюжине батистовых платков, тебе подороже, ей подешевле: за твою полудюжину заплатил я 45 р. ассигн., за ее – 25. Вы, пожалуй, за этот гостинец, вместо спасибо, еще разбраните меня. Но что ж было делать? Материи на платье в Одессе купить нельзя: таможня пропускает только сшитое и надеванное (почему платки ваши будут обрублены и сполоснуты). Купить что-нибудь дешевенькое? – но в таком случае всего бы лучше купить при въезде в Петербург пару саек, да и сказать, что вот мол вам, душеньки, подарок одесский. А если меня не обманули и лишнего не взяли, то таких платков за такую цену в Питере купить нельзя: вот почему одесский гостинец имеет смысл. Сегодня вечером принесут мне от портного суконный сертук и триковый сертук-пальто. Сукно по 25 р. аршин, и М<ихаил> С<еменович> говорит, что в Петербурге такое сукно стоит 35 р.; а весь сертук, с прикладом и работою, стоит 125 р. асс., а сертук-пальто 80. Непременно куплю еще полторы дюжины рубашек: дюжина готовых (голландского полотна) стоит 60 р. серебром – ведь это не мотовство, и рубашки надо же будет мне делать в Петербурге, а там они много дороже. Денег возьму у М<ихаила> С<еменовича>, а ему отдам в Москве; теперь же трачу из 500 ассигн., которые дал мне Герц<ен>; он еще в Петербург писал о них и хотел мне выслать, но я написал к нему, чтобы он дал мне их в Москве.
Доктор сказал мне, что мой кашель не грудной и не желудочный, а происходит от расстройства всего организма, преимущественно же нервной системы. Теперь только вижу я, до какой степени расстроены твои нервы: мои крепче твоих, я не боюсь лошадей и не пугаюсь ничего, что вижу или знаю вперед, но когда я слышу залп из пушки (2 раза в день, в 12 часов дня и в 9 вечера), то всегда пугаюсь, как будто бы подо мною пол провалился, и я полетел вверх ногами. Доктор говорил мне о чудотворной силе морского купанья для страждущих расстройством нервов и уверял, что он отпустит меня домой совершенно здоровым. Я действительно становлюсь крепче. Сегодня только два раза отдыхал на лестнице в 200 ступенек, и то на минуту, и то от слабости ног, а не от одышки, которой почти не чувствовал; слабость же в коленах чувствуют все, не привыкшие ходить по этой лестнице, даже М<ихаил> С<еменович>, хотя это и железный человек. Вот уже три дня, как я не сплю после обеда, и зато как лягу ночью, так и засну сию же минуту и сплю крепко до 6 1/2 часов; а ложусь в одиннадцатом, когда нет театра. А спать днем перестал потому, что за это провел адскую ночь – засну и проснусь – тяжело, жарко, душно, даром, что окно отворено. Не знаю, как буду спать нынешней ночью, после морского купанья. Морская вода действует на тело почти так же сильно, как и минеральные воды, и производит волнение и жар в крови ужасные. Поэтому я купался не больше двух минут. Ем вообще умеренно. Впрочем, в жары я не могу обжираться, если б и хотел, а здешние жары – не петербургские. Вишни и черешни не могу съесть и фунта за раз, а больше одного раза в день еще не случалось; от этой ягоды, слава богу, скоро делается оскомина. Других плодов пока еще нет, а апельсины теперь уж гадки. Вот в Крыму – другое дело, надо будет быть осторожнее; да с нами будет доктор, да и М<ихаил> С<еменович> смотрит за мной, словно дядька за недорослем. Что это за человек, если б ты знала!
В пятницу опять буду писать, а если б до понедельника получил через Кронеберга от тебя письмо из Харькова, то написал бы и в понедельник: в оба эти дня ходит экстрапочта. Прощай, целую тебя и Ольгу и жму руку Агриппине.
Твой Виссарион.
273. А. И. Герцену
Одесса. 1846, июля 4
Вчера получил письмо твое, любезный Герцен, за которое тебе большое спасибо.[876 - Письмо это не сохранилось.] Насчет первого пункта вполне полагаюсь на тебя, не забывай только одного – распорядиться в том случае, если мы разъедемся.
Мои путевые впечатления, собственно, будут вовсе не путевыми впечатлениями, как твои «Письма об изучении природы» – вовсе не об изучении природы письма.[877 - См. примеч. 1 к письму 253.] Ты сам знаешь, что и много ли можно сказать у нас о том, что заметишь и чем впечатлишься в дороге. Итак, путевые впечатления у меня будут только рамкою статьи, или, лучше сказать, придиркою к ней. Они будут состоять больше в толках[197 - Далее зачеркнуто: что] о скверной погоде и еще сквернейших дорогах. А буду писать я вот о чем:
1) О театре русском, причинах его гнусного состояния и причинах скорого и совершенного падения сценического искусства в России. Тут будет сказано многое из того, что уже было говорено и другими и мною, но предмет будет рассмотрен ? fond.[198 - основательно (франц.). – Ред.] М<ихаил> С<еменович> играл в Калуге, в Харькове, теперь играет в Одессе, а может быть, будет играть в Николаеве, Севастополе, Симферополе и чорт знает где еще. Я видел много, ходя и на репетиции и на представления, толкаясь между актерами. Сверх того, М<ихаил> С<еменович> преусердно снабжает меня комментариями и фактами – что всё будет ново и сильно.[878 - Этот замысел не был осуществлен.]
2) В Харькове я прочел «Московский сборник»: луплю и наяриваю об нем. Статья Самарина умна и зла, даже дельна, несмотря на то, что автор отправляется от неблагопристойного принципа кротости и смирения и, подлец, зацепляет меня в лице «Отечественных записок». Как умно и зло казнил он аристократические замашки Соллогуба! Это убедило меня, что можно быть умным, даровитым и дельным человеком, будучи славянофилом. Зато Хомяков – я ж его, ракалию! Дам я ему зацеплять меня – узнает он мои крючки! Ну уж статья! Вот бесталанный-то ёрник! Потешусь, чувствую, что потешусь![879 - Смирнова (Россет) Александра Осиповна (1809–1882), фрейлина царского двора, жена (с 1832 г.) Николая Михайловича Смирнова (1807–1870), в то время калужского губернатора, приятельница Пушкина, Гоголя, Жуковского, Лермонтова, Вяземского.И. С. Аксаков, бывший в это время в Калуге, делился в письмах к родным впечатлениями от встреч с Белинским у Смирновых (вечера и обеды – 19, 20, 22 и 26 мая) («И. С. Аксаков в его письмах», ч. I, т. I. М., 1888, стр. 328–334, 337, 339). Аксаков сообщает о шести спектаклях с участием Щепкина: «Ревизор» (19 мая), «Мирандолина» (20 мая), «Повар и секретарь» и «Филипп» (24 мая), «Два купца и два отца» (25 мая), выступление 28 мая и бенефис 27 мая.]
3) Я не читал еще ругательства Сенковского;[880 - Имеется в виду рецензия на брошюру Белинского о Полевом в июньской книжке «Библ. для чтения» 1846 г. (отд. VI, стр. 50–54; без подписи). Сенковский высмеивал Белинского, называя его «юношей».] но рад ему, как новому материалу для моей статьи.
Из этого видишь, что моя статья будет журнально-фельетонною болтовнёю о всякой всячине, сдобренною полемическим задором. Уж сдобрю!
В Калуге столкнулся я с Иваном Аксаковым. Славный юноша! Славянофил, а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего![199 - Далее зачеркнуто: Вот]
Здоровье мое лучше. Я как-то свежее и заметно крепче, но кашель всё еще и не думает оставлять меня. С 25 июня начались было в Одессе жары, но с 30 опять посвежело; впрочем, всё тепло, так что ночью потеешь в легком пальто. Начал было я читать Данта, т. е. купаться в море,[881 - Перефразировка строки из стихотворения С. П. Шевырева «Чтение Данта» («Что в море купаться, что Данта читать…»).] да кровь прилила к груди, и я целое утро харкал кровью; доктор велел на время прекратить купанья.
Вот что скверно. Последние два письма от жены получил я в Харькове, от 22 и 27 мая, в обоих она жалуется на огорчения и на лихорадку; а с тех пор до сей минуты не получаю ни строки и не знаю, что с нею делается, – тоска! Без этого мне было бы весело – far niente.[200 - безделье (итал.). – Ред.]
Соколов[882 - См. письмо 271 и примеч. 1 к нему.] – славный малый, но впал в провинциальное прекраснодушие. Оттого, что ты в письме ко мне не упомянул о нем, чуть не расплакался. О, провинция – ужасная вещь! Одесса лучше всех губернских городов, это – решительно третья столица России, очаровательный город, но – для проходящих.[883 - Из басни И. И. Дмитриева «Прохожий» (1803 г.).] Остаться жить в ней – гибель.
Наталье Александровне мой поклон. А что ж ты не пишешь – где теперь пьет Огарев и селадонствует Сатин? Всем нашим жму руку. Что ты не сообщил мне ни одной новой остроты Корша? Поклонись от меня его семейству и не сказывай Марье Федоровне, что меня беспокоит неизвестность о положении моего семейства: она, пожалуй, сочтет меня за примерного (!!) семьянина, а такое мнение с ее стороны хуже самой злой остроты Корша. Прощай. Если не поленишься, напиши что-нибудь.
В. Белинский.
М<ихаил> С<еменович> страдает от одесских жаров и своего чрева, насилу носит его. Вам всем кланяется, а жертву своего обольщения, Марью Каншаровну,[884 - M. К. Эрн (1823–1916), в замужестве Рейхель, близкий друг Герцена с детских лет, уехавшая с ним за границу.] целует – такой шалун!
274. М. В. Белинской
Одесса. 1846, июля 8
Сейчас получил твое письмо, ch?re Marie;[201 - милая Мари (франц.). – Ред.] оно меня испугало, обрадовало, успокоило и удивило. Я думал, ты умираешь, если еще не умерла, или что с Ольгой плохо. Твоя лихорадка и ежедневные[202 - Далее зачеркнуто: мучения] мелкие огорчения, которые так сильно на тебя действуют, – о чем всем писала ты мне в последнем письме своем от 27 мая, не говоря ни слова о том, лечишься ли ты, – всё это напугало меня. Прибавь к этому, что вот уже почти месяц, как я не получал от тебя ни строки и, следовательно, не имел никакого понятия о твоем положении за целые полтора месяца, кроме того, что ты больна. Каждый день жду письма, через Кронеберга, из Харькова, и вот с полчаса назад – письмо; срываю куверт Кронеберга – там рука твоя – ну! – Читаю – и странное впечатление произвело на меня это письмо. Что за старина![203 - Далее зачеркнуто: Ты пишешь] Я исколесил более двух тысяч верст, проехал Калугу, Тулу, Воронеж, Курск, был на Коренной, в Харькове, Екатеринославе, вот уже 17-й день как в Одессе, – а ты всё еще не выехала из Москвы: всё пишешь мне о моем пребывании в Москве, которое я помню, как будто сквозь сон. Однако ж я очень хорошо помню, что ни в Москве, ни в другом каком месте не плакал. Это, вероятно, bon mot[204 - острота (франц.). – Ред.] Панаева, которое Маслов принял за наличные деньги, а ты и поверила. Впрочем, если это имеет какое-нибудь основание, т. е. хоть не то, чтоб я рыдал, а, может быть, глаза были влажны, – так не помню, как честный человек, не помню, потому что был в истинном «восторге», так что многое мне помнится, как сквозь сон.
Не понимаю, что у тебя был за план прожить зиму в Ревеле: что за ребяческая мысль? Но об этом после. Что я за Ольгу рад до смерти, что я люблю ее без памяти и заочно, при сей верной оказии, целую ее 1000 раз, – всё это разумеется само собою; но вот что мне кажется странно: когда же это она успела захворать и выздороветь: ведь в письме от 27 мая она была здорова, а от 27 мая до 6 июня – всего десять дней. И что же ты не написала, чем именно была она больна? Потом: забыла ли она о груди, как забыла обо мне, ветреница и изменница?
Я никак не ожидал, чтобы Ревель был так отвратителен. Хуже всего то, что ты не только не гуляешь, но и не купаешься в море. За этим люди приезжают чорт знает откуда; а ты приехала не издалека и понапрасну. А морские ванны должны бы тебе быть полезны, как всем слабонервным; только без доктора с ними обращаться опасно. Я начал купаться с пятницы (28-е июня), в субботу и воскресенье купался по два раз, а когда в понедельник (1-е июля) поутру пошел я сделать[205 - Первоначально: взять] шестое купанье, то заметил, что откашливаюсь с кровью. Это мне не помешало выкупаться. Однако в тот же день поехал я к доктору, и он велел мне на время оставить купанье и дал микстуру, от которой меня послабило и отвлекло прилив крови от груди вниз. Тем не менее, сегодня в первый <раз> позволил он мне возобновить купанья, и я поутру купался, а часа через три опять пойду. Чудо, что за наслаждение! Сегодня море в волнении, волна то подхватит тебя, взнесет на гору, сбросит вниз, окатит с головою, вода теплая, погода чудная, хотя и с ветром! Купанье уже оказало благодетельное влияние на мои нервы: я стал крепче, свежее и здоровее.
В Москву мы будем с М<ихаилом> С<еменовичем> к первому октября, и если опоздаем, то никак не больше, как двумя или тремя днями, потому что он получил отпуск только до этого времени. Приехавши, я тотчас же беру место в мальпост или где случится, и в Москве пробуду не более недели.
Ты пишешь, что это от тебя 4-е письмо в Харьков: я третьего не получал. Должно быть, ты адресовала его на имя Алфераки, а он теперь на ярмарке в Ромнах. Жаль, что так случилось.
Спектакли русские в Одессе кончились, и мы пока живем так, сами не зная, скоро ли едем. Это зависит от содержателя театральной труппы в Новороссии, с которым М<ихаил> С<еменович> сделал условие.[885 - См. примеч. 1 к письму 272.] Когда он напишет, мы по старому пути поедем на северо-восток, в Николаев, где проживем недель около двух, оттуда еще дальше – в Херсон, а оттуда опять в Одессу, чтобы из нее морем ехать на южный берег Крыма, откуда поедем в Симферополь и Севастополь, где М<ихаил> С<еменович> будет играть.
Вчера мы с М<ихаилом> С<еменовичем> пили шампанское за здоровье Ольги, о чем и прошу уведомить ее.[873 - 13 июня – день рождения О. В. Белинской.]
15 июня
В Харькове опять тепло. Третьего дня пошел теплый дождь – и стало тепло. Харьков был первый город, в котором на этой дороге встретился я с мухами и блохами, а вчера вечером (чудный вечер – так и парило!) укусил меня первый комар, которого я от радости тут же и раздавил. Что за пыль в Харькове! Ужас! Меня печалит мысль, что ты долго не получишь моих писем. Твои шли ко мне – первое, кажется, 17, а второе 15 дней. Чего ты ни надумаешься в ожидании! Это письмо пойдет по экстрапочте, и потому не мудрено, что ты получишь его прежде первого, которое пошло к тебе в середу (12).
Завтра в ночь едем в Екатеринослав, через неделю будем в Одессе. Пиши туда на имя Александра Ивановича Соколова (в Одессе). Еще раз прощай, друг мой. Желаю тебе всего хорошего, а больше всего здоровья и терпения, терпения и здоровья.
Твой Виссарион.
271. М. В. Белинской
Одесса. 1846, июня 24, понедельник
Мысль о твоей болезни, ch?re Marie,[194 - милая Мари (франц.). – Ред.] так мучительно беспокоит меня, что мне тяжело писать к тебе. К этому присоединяется еще та мысль, что до сих пор ты не получила от меня ни одного письма со времени моего выезда из Москвы. При твоей обыкновенной мнительности в соединении с болезнию это обстоятельство должно быть для тебя истинною пыткою. То я болен, то умер, то забыл свое семейство до того, что и знать о нем не хочу, то мне скучно и я страдаю, то мне весело и я до того наслаждаюсь всеми благами, что мне вовсе не до жены, – вот мысли, которые денно и нощно вертятся у тебя в голове и грызут тебя. Я это знаю хорошо, потому <что> знаю тебя хорошо, не говоря уже о том, что на твоем месте и всякая другая женщина, хоть и не так, а всё бы не могла не беспокоиться. Я и сам, до получения от тебя письма в Харькове, чувствовал себя неловко, и хотя это письмо было и неутешительно, но всё-таки оно избавило меня хотя от чувства неизвестности, которое теперь опять мучит меня. Рассчитываю по пальцам, и всё выходит, что мои два письма из Харькова (от 12 и 15 июня) ты должна получить не прежде 28 числа, т. е., еще через 4 дня по отсылке вот этого письма; а когда получу от тебя письмо – не знаю. Я, впрочем, несмотря на это, живу недурно, даже больше весело, нежели скучно, потому что мысль о тебе и твоем положении вдруг набегает на меня, как волна на корабль – качнет и рванет, и отхлынет. Такие минуты довольно часты и очень тяжелы; но я гоню от себя черные мысли, как солдат на сражении, который всё-таки думает: авось не убьют, и с отчаянною храбростию слышит свист пуль. Я думаю: если худо, еще будет время отдаться мукам страдания, а если хорошо, то нечего заранее напрасно себя мучить и терзать. Здоровье мое очень поправилось: я и свежее, и крепче, и бодрее. Что же касается до кашлю, – в отношении к нему я сделался совершенным барометром: солнце жжет, ветру нет – грудь моя дышит легко, мне отрадно, и кажется, что проклятый кашель навсегда оставил меня; но лишь скроется солнце хоть на полчаса за облако, пахнет ветер – и я кашляю. Впрочем, сильные припадки кашлю оставили меня уже с месяц. Вообще же, если бы я получил от тебя письмо, из которого бы увидел, что ты здорова и спокойна, Ольга попрежнему дует молоко, как теленок, здоровеет, полнеет, начинает ходить, лепетать, Агриппина находится в добром гуморе и вы с нею бранитесь только слегка, и то больше для препровождения времени, – я бы начал жить, как давно уже не жил, да и надежду потерял жить. Но когда я получу от тебя письмо (если бы и предположить, что оно будет так благоприятно, как бы мне хотелось): мое получишь ты 28, свое пошлешь, положим, 30-го июня, а получу я его и не знаю когда – недели через три. Наделал же я дела, пославши тебе письмо из Калуги в Гапсаль!
Из Харькова выехали мы в воскресенье, 16-го, в ночь, часа в три. Накануне, в субботу, Кронеберг участвовал в пикнике, который затеяли его знакомые. Заметив, что тут будет много незнакомых рож, которые, кажется, на меня и собирались, я отказался, хотя меня и сильно упрашивали. С пикника Кронеберг провожал одну даму, на ее лошадях, и лошади понесли их с страшной горы; жизнь сидевших была на волоске, Кр<онеберг> выпрыгнул счастливо, только ушиб колени и подбородок, и на другой день я увидел его с подвязанным лицом. Дама тоже отделалась легким ушибом; только кучеру досталось порядком. Пикник их был скучен, и я поздравил себя, что не поехал на него. В тот же вечер (в воскресенье) Кр<онеберг> был очень озабочен и сказал мне, что его Коля тяжело болен. У него была корь, она прошла, но после нее сделалось воспаление: такое теперь, говорят, поветрие. Не знаю, что теперь у них делается. А девочка их – ничего; здорова и смешна, как следует быть ребенку, даже довольно жива.
Из Харькова выехали мы, как водится, с дождем и довольно холодною погодою. Во время спектакля шел сильный дождь, обративший страшную пыль в порядочную грязь. Мы направили наш путь на Екатеринослав. Погода скоро поправилась, и стало светло, хотя и холодно, за исключением полдня, когда пекло солнцем. На одной станции мы принуждены были ночевать, прождавши лошадей ровно 12 часов. Во вторник, часов около 8 вечера, прибыли в Екатеринослав. Этот город, как все города в Новороссии, построен Потемкиным, который хотел из него сделать южную столицу России. И было где! Екатеринослав стоит у Днепра,[195 - Первоначально: на берегу Днепра] на высоком берегу; Днепр обтекает его полукругом и в этом месте шире Невы. Город чрезвычайно оригинален: улицы прямые, широкие; есть дома порядочные, но больше всё мазанки, по улицам бродят свиньи с поросятами, спутанные лошади. Город кишит жидами. На огромной (незастроенной) площади стоит храм, довольно большой; но он занимает только место алтаря по прежнему плану. Потемкин хотел его строить на целый аршин кругом шире собора Петра и Павла в Риме – величайшего в Европе храма. Но он умер, и с ним умерли все его исполинские планы. На той же площади стоит дворец Потемкина, в котором он принимал у себя императрицу Екатерину и австрийского императора Иосифа II. Середина дворца ресторирована для дворянского собрания, а боковые здания находятся в состоянии развалин. При дворце сад, омываемый заливом Днепра, в саду много деревьев, которые не могут расти в московском климате и которых нет и в Харькове (хотя от Харькова до Екатеринослава только 200 верст), например, шелковичное дерево и др. Интересен также казенный городской сад. В нем одних яблонь до 49 родов, акаций до 30 родов, много разных американских растений. Всё это смотрели мы на другой день приезда; погода была чудесная, я много ходил – и не уставал, и вид этой природы и чудного местоположения упоил меня. Отобедавши у одного знакомого М<ихаила> С<еменовича>, в 5 часов вечера мы выехали из Екатеринослава. Проехали через Херсон (довольно дрянной городишко при днепровском лимане, т. е. заливе); от него поворотили параллельно морю, от востока на запад, ехавши до того времени прямо от севера на юг. Жаль, что через Николаев проезжали ночью. Город большой, портовой, стоит он при слиянии Буга с Ингулом, образующем реку шириною верста и 70 сажен.[196 - Первоначально: аршин] Переправлялись на баркасе с парусом и на веслах; ночь была чудная, месячная. На другой день (в субботу, 22) за 30 верст от Одессы завидели Черное море, по берегу которого столько верст ехали, не видавши его. В Одессу приехали в 2 часа. Оригинальный город! Чисто иностранный, с итальянским характером. Наш трактир на берегу моря, берег высокий, вдоль его идет бульвар, вниз к морю идет каменное крыльцо, с большими уступами, в 200 ступенек. По этой лестнице ходят купаться в море. На море корабли, суда. Вид единственный! А что за гулянье по этому бульвару в тихую, теплую погоду, лунною ночью! Боже великий! Когда в Одессе жары, жители днем спят, а ночью гуляют. Днем пыль страшная, и многие дома (и наш трактир) сделаны с жалузи, которые днем и не открываются по причине страшной пыли. Есть в Одессе Пале-Рояль – четвероугольное здание, с садиком внутри, с галереею кругом, с 3-х сторон, – с 4-й ход в театр. Тут лавки с модными товарами, кофейни, кондитерские, в галереях всегда народ, сидят на скамейках, на стульях, перед маленькими столиками, пьют кофе, шоколад, лимонад, оршад, едят мороженое. Всё это довольно пестро, живо. Для меня одно скверно: нельзя купаться в море – вода страшно холодна. Это странное море – вода в нем холодеет от южного ветра, который ее выворачивает со дна, а при северном теплеет. Дня за три до нашего приезда вода была тепла. Впрочем, нынешний год весна и лето в Одессе скверные, как и во всей России. Оно, коли хочешь, тепло, даже жарко, но ветер холодный. Теперь, спасибо, вечера очаровательны; поэзия, чистая поэзия!
Приехавши, я взял ванну, теплую, из морской воды; меня от нее страшно расслабило – едва на ногах держался целый день. Завтра возьму похолоднее. Сдуру вымыл голову морскою водой – 4 раза мылил, а грязи всё-таки не смыл, потому что соленая вода уничтожает мыло. От смеси оставшейся в волосах грязи с морскою водою моя голова до сих пор словно смолою вымазана.
Шью себе сертук в Одессе. Неимение сертука в дороге было для меня истинною пыткою. Без фрака было бы во 100 раз легче обойтись. В Одессе всё страшно дешево.
Мы проживем в Одессе недели две, а может быть и три, и я надеюсь получить от тебя письмо в ответ на мои харьковские; а если не получу, А. И. Соколов перешлет их в Крым.[874 - Соколов Александр Иванович, одесский чиновник, близкий к литературным кругам, бывший студент Московского университета. См. о нем письмо 273 и письмо Огарева к Грановскому от 28/VI 1849 г. («Звенья», I, 1932, стр. 149). Повидимому, Белинский имел к Соколову рекомендательное письмо из Москвы (может быть, от Герцена). Сохранилось одно письмо Соколова к Белинскому от 2/VIII 1846 г., после отъезда Белинского из Одессы (БКр, стр. 274–275).]
Пиша это письмо, я всё жрал вишни. Пока из плодов только и есть. Впрочем, в Екатеринославе отведал дыни.
В пятницу мне будет весело от мысли, что наконец-то получила ты от меня мои письма. О, если бы они застали тебя выздоровевшею!
Но пока прощай. Из Одессы ты получишь от меня еще письма два или три, смотря по тому, сколько времени проживем мы в ней. Целую тебя и Ольгу и кланяюсь всем вам.
Твой Виссарион.
Это письмо пойдет сегодня же, по экстрапочте.
272. М. В. Белинской
Одесса. 1846, июня 28
Если только мои письма из Харькова не пропали на почте, то ты их уже получила сегодня, вчера или даже три и четыре дня назад. Но от тебя ни строки. Неужели ты после двух своих писем не послала еще ни одного в Харьков? Страшно подумать! потому что без особенной причины ты едва ли бы стала так долго не писать. Хорошо бы, если б это потому, что ты хотела сперва дождаться ответа от меня, считая меня без вести пропавшим. Однако ж я всё надеюсь и жду: авось Кронеберг перешлет мне твое письмо из Харькова. Если ж нет – буду крепиться и ждать ответа от тебя на мои харьковские письма, ждать их до половины будущего месяца, до 20-х чисел его, а там уж, конечно, если не от тебя, так от других услышу что-нибудь о тебе. А пока буду писать в предположении, даже в уверенности, что всё хорошо, что ты теперь поправилась, а мои письма из Харькова успокоили и развеселили тебя.
Со вторника (на другой день по отправлении к тебе первого письма моего) в Одессе наступила летняя погода. Не знаю, сколько именно градусов, но уверен, что на солнце не меньше 35. М<ихаил> С<еменович> весь так и плывет; меня этим еще нельзя пронять, но бывает и мне тяжело. Потею чуть-чуть (потому что днем не выхожу), но иногда даже лежать трудно, не только сидеть. Спим с отворенным окном, и я накрываюсь ночью моим салфеточным халатом – и то жарко. Но что за вечера! Что за луна! На одесском бульваре ночью, при луне, над морем, поневоле становишься романтиком: грудь ноет, а на душе так сладко, светло и ясно, хочется плакать, сам не зная о чем и отчего, на глазах кипят слезы, а в уме никакой определенной мысли. Смешно, право! Пале-Рояль – очарование, особенно вечером. Кругом магазины, с широкими галереями, с асфальтовым полом, внутри садик, горят огни; мужчины, дамы гуляют, сидят, болтают, пьют, едят. Хожу я настоящим аркадским пастушком: в белых панталонах, в жилете, легком платке на шее и белом пальто, прюнелевых сапогах и соломенной шляпе – да и то жарко. Сегодня в первый раз купался в море – хорошо. Вода вблизи зеленая, попадает в рот – солоно. В Одессе у М<ихаила> С<еменовича> есть доктор, короткий знакомый, прекрасный человек и искусный врач. Он меня расспрашивал о болезни, дал наставление, как купаться, и только потому не дал лекарства, что не нашел этого нужным. Он вместе с нами едет в Крым. В Одессе мы пробудем еще с месяц, а может быть, и больше. Из Одессы поедем в Крым морем, а там опять начнем колесить и кочевать из города в город: М<ихаил> С<еменович> заключил условие с одним содержателем труппы[875 - Содержатель труппы – известный актер-комик Жураковский, давний знакомый Щепкина (см. о нем воспоминания Шмакова в сб. «Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 396).] и будет играть у него в Симферополе, Севастополе, Херсоне, Николаеве, Елисаветграде и не знаю, где еще – всего 41 спектакль.
В понедельник вечером вздумал я купить себе в Пале-Рояле дюжину фуляров, за которую заплатил 20 р. серебром. В Питере дюжина таких платков (большие, прочные, плотные) стоила бы рублей 30, если не больше. Да вздумалось мне кстати купить что-нибудь для тебя и Агриппины, и купил я вам по полудюжине батистовых платков, тебе подороже, ей подешевле: за твою полудюжину заплатил я 45 р. ассигн., за ее – 25. Вы, пожалуй, за этот гостинец, вместо спасибо, еще разбраните меня. Но что ж было делать? Материи на платье в Одессе купить нельзя: таможня пропускает только сшитое и надеванное (почему платки ваши будут обрублены и сполоснуты). Купить что-нибудь дешевенькое? – но в таком случае всего бы лучше купить при въезде в Петербург пару саек, да и сказать, что вот мол вам, душеньки, подарок одесский. А если меня не обманули и лишнего не взяли, то таких платков за такую цену в Питере купить нельзя: вот почему одесский гостинец имеет смысл. Сегодня вечером принесут мне от портного суконный сертук и триковый сертук-пальто. Сукно по 25 р. аршин, и М<ихаил> С<еменович> говорит, что в Петербурге такое сукно стоит 35 р.; а весь сертук, с прикладом и работою, стоит 125 р. асс., а сертук-пальто 80. Непременно куплю еще полторы дюжины рубашек: дюжина готовых (голландского полотна) стоит 60 р. серебром – ведь это не мотовство, и рубашки надо же будет мне делать в Петербурге, а там они много дороже. Денег возьму у М<ихаила> С<еменовича>, а ему отдам в Москве; теперь же трачу из 500 ассигн., которые дал мне Герц<ен>; он еще в Петербург писал о них и хотел мне выслать, но я написал к нему, чтобы он дал мне их в Москве.
Доктор сказал мне, что мой кашель не грудной и не желудочный, а происходит от расстройства всего организма, преимущественно же нервной системы. Теперь только вижу я, до какой степени расстроены твои нервы: мои крепче твоих, я не боюсь лошадей и не пугаюсь ничего, что вижу или знаю вперед, но когда я слышу залп из пушки (2 раза в день, в 12 часов дня и в 9 вечера), то всегда пугаюсь, как будто бы подо мною пол провалился, и я полетел вверх ногами. Доктор говорил мне о чудотворной силе морского купанья для страждущих расстройством нервов и уверял, что он отпустит меня домой совершенно здоровым. Я действительно становлюсь крепче. Сегодня только два раза отдыхал на лестнице в 200 ступенек, и то на минуту, и то от слабости ног, а не от одышки, которой почти не чувствовал; слабость же в коленах чувствуют все, не привыкшие ходить по этой лестнице, даже М<ихаил> С<еменович>, хотя это и железный человек. Вот уже три дня, как я не сплю после обеда, и зато как лягу ночью, так и засну сию же минуту и сплю крепко до 6 1/2 часов; а ложусь в одиннадцатом, когда нет театра. А спать днем перестал потому, что за это провел адскую ночь – засну и проснусь – тяжело, жарко, душно, даром, что окно отворено. Не знаю, как буду спать нынешней ночью, после морского купанья. Морская вода действует на тело почти так же сильно, как и минеральные воды, и производит волнение и жар в крови ужасные. Поэтому я купался не больше двух минут. Ем вообще умеренно. Впрочем, в жары я не могу обжираться, если б и хотел, а здешние жары – не петербургские. Вишни и черешни не могу съесть и фунта за раз, а больше одного раза в день еще не случалось; от этой ягоды, слава богу, скоро делается оскомина. Других плодов пока еще нет, а апельсины теперь уж гадки. Вот в Крыму – другое дело, надо будет быть осторожнее; да с нами будет доктор, да и М<ихаил> С<еменович> смотрит за мной, словно дядька за недорослем. Что это за человек, если б ты знала!
В пятницу опять буду писать, а если б до понедельника получил через Кронеберга от тебя письмо из Харькова, то написал бы и в понедельник: в оба эти дня ходит экстрапочта. Прощай, целую тебя и Ольгу и жму руку Агриппине.
Твой Виссарион.
273. А. И. Герцену
Одесса. 1846, июля 4
Вчера получил письмо твое, любезный Герцен, за которое тебе большое спасибо.[876 - Письмо это не сохранилось.] Насчет первого пункта вполне полагаюсь на тебя, не забывай только одного – распорядиться в том случае, если мы разъедемся.
Мои путевые впечатления, собственно, будут вовсе не путевыми впечатлениями, как твои «Письма об изучении природы» – вовсе не об изучении природы письма.[877 - См. примеч. 1 к письму 253.] Ты сам знаешь, что и много ли можно сказать у нас о том, что заметишь и чем впечатлишься в дороге. Итак, путевые впечатления у меня будут только рамкою статьи, или, лучше сказать, придиркою к ней. Они будут состоять больше в толках[197 - Далее зачеркнуто: что] о скверной погоде и еще сквернейших дорогах. А буду писать я вот о чем:
1) О театре русском, причинах его гнусного состояния и причинах скорого и совершенного падения сценического искусства в России. Тут будет сказано многое из того, что уже было говорено и другими и мною, но предмет будет рассмотрен ? fond.[198 - основательно (франц.). – Ред.] М<ихаил> С<еменович> играл в Калуге, в Харькове, теперь играет в Одессе, а может быть, будет играть в Николаеве, Севастополе, Симферополе и чорт знает где еще. Я видел много, ходя и на репетиции и на представления, толкаясь между актерами. Сверх того, М<ихаил> С<еменович> преусердно снабжает меня комментариями и фактами – что всё будет ново и сильно.[878 - Этот замысел не был осуществлен.]
2) В Харькове я прочел «Московский сборник»: луплю и наяриваю об нем. Статья Самарина умна и зла, даже дельна, несмотря на то, что автор отправляется от неблагопристойного принципа кротости и смирения и, подлец, зацепляет меня в лице «Отечественных записок». Как умно и зло казнил он аристократические замашки Соллогуба! Это убедило меня, что можно быть умным, даровитым и дельным человеком, будучи славянофилом. Зато Хомяков – я ж его, ракалию! Дам я ему зацеплять меня – узнает он мои крючки! Ну уж статья! Вот бесталанный-то ёрник! Потешусь, чувствую, что потешусь![879 - Смирнова (Россет) Александра Осиповна (1809–1882), фрейлина царского двора, жена (с 1832 г.) Николая Михайловича Смирнова (1807–1870), в то время калужского губернатора, приятельница Пушкина, Гоголя, Жуковского, Лермонтова, Вяземского.И. С. Аксаков, бывший в это время в Калуге, делился в письмах к родным впечатлениями от встреч с Белинским у Смирновых (вечера и обеды – 19, 20, 22 и 26 мая) («И. С. Аксаков в его письмах», ч. I, т. I. М., 1888, стр. 328–334, 337, 339). Аксаков сообщает о шести спектаклях с участием Щепкина: «Ревизор» (19 мая), «Мирандолина» (20 мая), «Повар и секретарь» и «Филипп» (24 мая), «Два купца и два отца» (25 мая), выступление 28 мая и бенефис 27 мая.]
3) Я не читал еще ругательства Сенковского;[880 - Имеется в виду рецензия на брошюру Белинского о Полевом в июньской книжке «Библ. для чтения» 1846 г. (отд. VI, стр. 50–54; без подписи). Сенковский высмеивал Белинского, называя его «юношей».] но рад ему, как новому материалу для моей статьи.
Из этого видишь, что моя статья будет журнально-фельетонною болтовнёю о всякой всячине, сдобренною полемическим задором. Уж сдобрю!
В Калуге столкнулся я с Иваном Аксаковым. Славный юноша! Славянофил, а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего![199 - Далее зачеркнуто: Вот]
Здоровье мое лучше. Я как-то свежее и заметно крепче, но кашель всё еще и не думает оставлять меня. С 25 июня начались было в Одессе жары, но с 30 опять посвежело; впрочем, всё тепло, так что ночью потеешь в легком пальто. Начал было я читать Данта, т. е. купаться в море,[881 - Перефразировка строки из стихотворения С. П. Шевырева «Чтение Данта» («Что в море купаться, что Данта читать…»).] да кровь прилила к груди, и я целое утро харкал кровью; доктор велел на время прекратить купанья.
Вот что скверно. Последние два письма от жены получил я в Харькове, от 22 и 27 мая, в обоих она жалуется на огорчения и на лихорадку; а с тех пор до сей минуты не получаю ни строки и не знаю, что с нею делается, – тоска! Без этого мне было бы весело – far niente.[200 - безделье (итал.). – Ред.]
Соколов[882 - См. письмо 271 и примеч. 1 к нему.] – славный малый, но впал в провинциальное прекраснодушие. Оттого, что ты в письме ко мне не упомянул о нем, чуть не расплакался. О, провинция – ужасная вещь! Одесса лучше всех губернских городов, это – решительно третья столица России, очаровательный город, но – для проходящих.[883 - Из басни И. И. Дмитриева «Прохожий» (1803 г.).] Остаться жить в ней – гибель.
Наталье Александровне мой поклон. А что ж ты не пишешь – где теперь пьет Огарев и селадонствует Сатин? Всем нашим жму руку. Что ты не сообщил мне ни одной новой остроты Корша? Поклонись от меня его семейству и не сказывай Марье Федоровне, что меня беспокоит неизвестность о положении моего семейства: она, пожалуй, сочтет меня за примерного (!!) семьянина, а такое мнение с ее стороны хуже самой злой остроты Корша. Прощай. Если не поленишься, напиши что-нибудь.
В. Белинский.
М<ихаил> С<еменович> страдает от одесских жаров и своего чрева, насилу носит его. Вам всем кланяется, а жертву своего обольщения, Марью Каншаровну,[884 - M. К. Эрн (1823–1916), в замужестве Рейхель, близкий друг Герцена с детских лет, уехавшая с ним за границу.] целует – такой шалун!
274. М. В. Белинской
Одесса. 1846, июля 8
Сейчас получил твое письмо, ch?re Marie;[201 - милая Мари (франц.). – Ред.] оно меня испугало, обрадовало, успокоило и удивило. Я думал, ты умираешь, если еще не умерла, или что с Ольгой плохо. Твоя лихорадка и ежедневные[202 - Далее зачеркнуто: мучения] мелкие огорчения, которые так сильно на тебя действуют, – о чем всем писала ты мне в последнем письме своем от 27 мая, не говоря ни слова о том, лечишься ли ты, – всё это напугало меня. Прибавь к этому, что вот уже почти месяц, как я не получал от тебя ни строки и, следовательно, не имел никакого понятия о твоем положении за целые полтора месяца, кроме того, что ты больна. Каждый день жду письма, через Кронеберга, из Харькова, и вот с полчаса назад – письмо; срываю куверт Кронеберга – там рука твоя – ну! – Читаю – и странное впечатление произвело на меня это письмо. Что за старина![203 - Далее зачеркнуто: Ты пишешь] Я исколесил более двух тысяч верст, проехал Калугу, Тулу, Воронеж, Курск, был на Коренной, в Харькове, Екатеринославе, вот уже 17-й день как в Одессе, – а ты всё еще не выехала из Москвы: всё пишешь мне о моем пребывании в Москве, которое я помню, как будто сквозь сон. Однако ж я очень хорошо помню, что ни в Москве, ни в другом каком месте не плакал. Это, вероятно, bon mot[204 - острота (франц.). – Ред.] Панаева, которое Маслов принял за наличные деньги, а ты и поверила. Впрочем, если это имеет какое-нибудь основание, т. е. хоть не то, чтоб я рыдал, а, может быть, глаза были влажны, – так не помню, как честный человек, не помню, потому что был в истинном «восторге», так что многое мне помнится, как сквозь сон.
Не понимаю, что у тебя был за план прожить зиму в Ревеле: что за ребяческая мысль? Но об этом после. Что я за Ольгу рад до смерти, что я люблю ее без памяти и заочно, при сей верной оказии, целую ее 1000 раз, – всё это разумеется само собою; но вот что мне кажется странно: когда же это она успела захворать и выздороветь: ведь в письме от 27 мая она была здорова, а от 27 мая до 6 июня – всего десять дней. И что же ты не написала, чем именно была она больна? Потом: забыла ли она о груди, как забыла обо мне, ветреница и изменница?
Я никак не ожидал, чтобы Ревель был так отвратителен. Хуже всего то, что ты не только не гуляешь, но и не купаешься в море. За этим люди приезжают чорт знает откуда; а ты приехала не издалека и понапрасну. А морские ванны должны бы тебе быть полезны, как всем слабонервным; только без доктора с ними обращаться опасно. Я начал купаться с пятницы (28-е июня), в субботу и воскресенье купался по два раз, а когда в понедельник (1-е июля) поутру пошел я сделать[205 - Первоначально: взять] шестое купанье, то заметил, что откашливаюсь с кровью. Это мне не помешало выкупаться. Однако в тот же день поехал я к доктору, и он велел мне на время оставить купанье и дал микстуру, от которой меня послабило и отвлекло прилив крови от груди вниз. Тем не менее, сегодня в первый <раз> позволил он мне возобновить купанья, и я поутру купался, а часа через три опять пойду. Чудо, что за наслаждение! Сегодня море в волнении, волна то подхватит тебя, взнесет на гору, сбросит вниз, окатит с головою, вода теплая, погода чудная, хотя и с ветром! Купанье уже оказало благодетельное влияние на мои нервы: я стал крепче, свежее и здоровее.
В Москву мы будем с М<ихаилом> С<еменовичем> к первому октября, и если опоздаем, то никак не больше, как двумя или тремя днями, потому что он получил отпуск только до этого времени. Приехавши, я тотчас же беру место в мальпост или где случится, и в Москве пробуду не более недели.
Ты пишешь, что это от тебя 4-е письмо в Харьков: я третьего не получал. Должно быть, ты адресовала его на имя Алфераки, а он теперь на ярмарке в Ромнах. Жаль, что так случилось.
Спектакли русские в Одессе кончились, и мы пока живем так, сами не зная, скоро ли едем. Это зависит от содержателя театральной труппы в Новороссии, с которым М<ихаил> С<еменович> сделал условие.[885 - См. примеч. 1 к письму 272.] Когда он напишет, мы по старому пути поедем на северо-восток, в Николаев, где проживем недель около двух, оттуда еще дальше – в Херсон, а оттуда опять в Одессу, чтобы из нее морем ехать на южный берег Крыма, откуда поедем в Симферополь и Севастополь, где М<ихаил> С<еменович> будет играть.