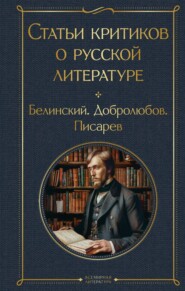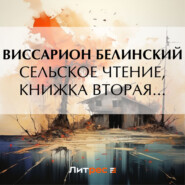По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Письма (1841–1848)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Рощин едет в Москву 2-го апреля, кажется, переманивать в Питер Галахова. Он говорит обо мне, как о потерянном мальчишке, которого ему жаль; говорит, что я никогда не умел покориться никакому долгу, никакой обязанности. Теперь через Некр<асова> пытает о моих делах, делает вид, что принимает участие, и, кажется, ему хочется, чтоб я взял у него денег, да нет же – скорей повешусь. Вообще ему, как видно, неловко, и он сконфужен. Слышал я, что он распространяет слухи, что хочет мне отказать, как человеку беспокойному и его изданию опасному. Поздно схватился!
Мне непременно нужно знать, когда именно думает ехать М<ихаил> С<еменович>. Я так и буду готовиться. Альманаха при мне напечатается листов до 15, остальные без меня (я поручаю надежному человеку), а к приезду моему он будет готов, а в октябре выпущу.
Здравствуй, Николай Платонович! наконец-то твое возвращение унес не миф. Я был на тебя сердит и больно, братец, а за что – спроси у Герцена. А теперь я хотел бы поскорей увидеть твою воинственную наружность и на радости такого созерцания выпить редереру – что это за вино, братец ты мой! Сатину и всем вам жму руку.[813 - Н. П. Огарев вернулся из-за границы в начале марта 1846 г. О недовольстве Белинского Огаревым см. письмо 254.]
В. Б.
259. В. И. Боткину
СПб. 1846, марта 26 (апреля 6)
Давно мы не видались, друг Василий Петрович, и давно не подавали друг другу голоса.[814 - Последнее известное письмо Белинского к Боткину этого времени – от 24/V 1843 г. (№ 221). О том, что Белинский писал ему и позже, свидетельствует ответ Боткина от 6/VII 1845 г. («Литер. мысль», II, 1923, стр. 188). Кроме того, известны 4 письма Боткина к Белинскому за 1844–1845 гг. (там же, стр. 183–187).] Что до меня, мне все переписки надоели и я стал на письма так же ленив, как во время оно (глупое время!) был ретив. Сверх того, я и боюсь переписки: она годна только для недоразумений. Что при свидании решается двумя-тремя словами к обоюдному удовольствию, то в разлуке служит поводом к огромной переписке, где всё перепутывается. Это я много раз испытал, и пора мне воспользоваться уроком опыта. О себе писать мне просто противно, а больше ведь у нас не о чем писать. Скоро увидимся – тогда вновь познакомимся друг с другом – говорю: познакомимся, потому что после трехлетней разлуки ни я, ни ты – не то, что были.[815 - Боткин возвратился из-за границы (куда он уехал в сентябре 1843 г.) около ноября 1846 г. (см. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 520).] Мая 30, а по-вашему, по-басурманскому, июня 11-го,[816 - Родился Белинский 1 июня 1811 г., следовательно, в 1846 г. ему было 35, а не 36 лет (см. об этом Письма, т. III, стр. 352–354, а также «Новое время» 1910, № 12364 от 14/VIII).] стукнет мне 36 лет,[171 - Далее зачеркнуто: а так почти] осенью три года, как я женат, и моей дочери теперь девять месяцев. В это время я пережил да передумай (и уже не головою, как прежде), право, лет за 30. Пройдут незаметно и еще 4 года – и мне 40 лет – страшно! Вот она и старость! Ну, да довольно об этом.
Спасибо тебе за письма об Испании и Танжере.[817 - См. примеч. 14 к письму 256.] Они прекрасны, и из них для моего альманаха выходит превосходная и преинтересная статья. Спасибо тебе за согласие отдать их мне.
Желал бы я знать, когда именно воротишься ты, да я думаю, пока ты и сам этого не знаешь. Я еду с М. С. Щ<епкиным> в Новороссию (в Одессу и Крым). Воротимся мы в октябре. Вот мне и хотелось бы в Питере столкнуться с тобою, а не то хоть в Москве, но лишь бы не разъехаться дорогою.
О моем здоровье и частию моих обстоятельствах узнаешь от Николая Петровича;[818 - H. П. Боткин. Видимо, он ехал за границу и письмо было передано через него.] а в дополнение[172 - Первоначально: а о новостях в дополнение ко всему] прочти письмо к Анненкову.[819 - Это письмо не сохранилось.]
Мишелю жму руку. О семействе его не имею никаких известий.[173 - Первоначально: новостей] Слышал от Беера, что А<лександра> А<лександровна> родила дочь, а больше ничего не знаю.
Странное дело! при мысли о свидании с тобою мне всё кажется, будто мы расстались молодыми, а свидимся стариками, и от этой мысли мне и грустно, и больно, и почти что страшно. Молодыми! Нет, я не был молод никогда, потому что всегда жил головой и сумел даже и из сердца сделать голову – отчего и вышла преуродливая голова.
Прощай, до свидания, надеюсь, скорого.
В. Б.
260. П. Н. Кудрявцеву
СПб. 1846, марта 26
Дражайший Петр Николаевич. Тысячекратно благодарю Вас за дружескую готовность снабдить меня Вашею повестью, спешу уведомить Вас, что мой альманах выйдет осенью и что, следовательно, если Вы послали повесть, то Вам нечего беспокоиться о том, что опоздаете.[820 - Повесть Кудрявцева «Без рассвета». См. примеч. 19 к письму 253 и письмо 268.] Если же не послали, то вышлите поскорее. Желал бы я узнать что-нибудь о Вас, тем более что обо мне Вы кое-что знаете через Анненкова. Что Вы, как Вы? Да хранит Вас судьба от сифилитического влияния шеллингианизма, пиэтистицизма,[174 - Далее зачеркнуто: и неметчи<ны?>] это пуще всего.[821 - Кудрявцев в это время был в Берлине. Об отношении Белинского к философии Шеллинга см. письма 199, 204, 268, 289.] Надеюсь, что Вы здоровы и обретаетесь в духе. Затем, не имея ничего более писать, желаю Вам всего хорошего. Жена моя, ее сестра Вам усердно кланяются, а за мою дочь, по причине ее малолетства и безграмотности, кланяюсь Вам я, равно как и за себя.
Ваш В. Б.
261. А. И. Герцену
СПб. 1846, апреля 6
Вчера записал было я к тебе письмо, сегодня хотел кончить, а теперь бросаю его и пишу новое, потому что получил твое, которого так долго ждал.[822 - Это письмо Герцена не сохранилось.] Признаюсь, я начал было беспокоиться, думая, что и на мою поездку на юг (о которой даже во сне брежу) чорт наложит свой хвост. Что ты мне толкуешь о важности и пользе для меня от этой поездки: я сам слишком хорошо понимаю это и еду не только за здоровьем, но и за жизнию. Дорога, воздух, климат, лень, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и всё это с таким спутником, как М<ихаил> С<еменович>, – да я от одной мысли об этом чувствую себя здоровее. И мой доктор (очень хороший доктор, хотя и не Крупов[823 - Шутливый намек на повесть Герцена «Записки доктора Крупова».]) сказал мне, что по роду моей болезни такая поездка лучше всяких лекарств и лечений. Итак, М<ихаил> С<еменович> едет решительно, и я знаю теперь, когда и <я> могу готовиться. Разве только что-нибудь непредвиденное и необыкновенное заставит меня отказаться; но во всяком случае я на днях беру место[175 - Первоначально: билет] в мальпост. Вчера я именно о том и писал к тебе, чтобы ты как можно скорее уведомил меня, едет ли М<ихаил> С<еменович> и когда именно. Вот почему сегодняшнее письмо твое ужасно обрадовало меня, так что куда девалась лень, и я сейчас же сел писать ответ, несмотря на то, что А. А. Т<учков>[824 - См. письмо 248 и примеч. 2 к нему.] едет во вторник. Известие об обретении явленных 500 р. – тоже не последнее обстоятельство в письме твоем, меня обрадовавшее. Только этих денег ты мне не высылай, а отдай[176 - Первоначально: приш<ли>] мне их в Москве. Оно проще, и хлопот меньше. На лето мне и семейству денег станет; может быть, станет их на месяц и по-приезде в Питер, а там – что будет, то и будет, а пока – vogue la gal?re![177 - была не была! (Франц.) – Ред.] Нашему брату подлецу, т. е. нищему, а не то чтобы мошеннику, даже полезно иногда довериться случаю и положиться на авось. Делать-то больше нечего, а притом, если такая поведенция может сгубить, то она же иногда может и спасти.
Ну, братец ты мой, спасибо тебе за интермедию к «Кто виноват?»[825 - Белинский имеет в виду эпизод из повести «Кто виноват?» – «Владимир Бельтов» (см. письмо 253, примеч. 16).] Я из нее окончательно убедился, что ты – большой человек в нашей литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего делать. Ты не поэт: об этом смешно и толковать; но ведь и Вольтер не был поэт не только в «Генриаде», но и в «Кандиде», – однако его «Кандид» потягается в долговечности со многими великими художественными созданиями, а многие не великие уже пережил и еще больше переживет их. У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию, – и потому в своих творениях, как поэты, они страшно, огромно умны, а как люди – ограниченны и чуть не глупы (Пушкин, Гоголь). У тебя, как у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборот – талант и фантазия ушли в ум,[178 - Далее зачеркнуто: а сердце] оживленный и согретый, так сказать, осердеченный гуманистическим направлением, не привитым и не вычитанным, а присущим твоей натуре. У тебя страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку; у тебя много и таланта и фантазии, но не того чистого и самостоятельного таланта, который всё родит сам из себя и пользуется умом как низшим, подчиненным ему началом, – нет, твой талант – чорт его знает[179 - Далее зачеркнуто: какой-то незаконнорожденный] – такой же батард[826 - От французского b?tard – внебрачный ребенок.] или пасынок в отношении к твоей натуре, как и ум в отношении к художественным натурам. Не умею яснее выразиться, но уверен, что ты поймешь это лучше меня (если еще не думал об этом вопросе) и мне же выскажешь это так ясно и определенно, что я закричу: эврика! эврика![827 - От греческого ?????? – нашел.] Есть умы чисто спекулятивные, для которых мышление почти то же, что чистая математика, – и вот когда такие принимаются за поэзию, у них выходят[180 - Далее зачеркнуто: чисто] аллегории, которые тем глупее, чем умнее. Сочетание сухого и даже влажного и теплого ума с бездарностию родит[181 - Первоначально: производит] камни и полена, которые показывала вместо детей Рея Кроносу.[828 - В основе мифа о Рее и Кроносе лежит рассказ о предсказании Кроносу, что один из сыновей лишит его престола. После этого предсказания Кронос съедал своих новорожденных детей. Но Рея спасла Зевса, подсунув, вместо него, Кроносу камень, завернутый в пеленку.] Но у тебя, при уме живом и осердеченном, есть своего рода талант – в чем он состоит, не умею сказать; но дело в том, что я глупее тебя на много раз, искусство (если не ошибаюсь) мне сроднее, чем тебе, фантазия у меня преобладает над умом, и, кажись, по всему этому такому своего рода таланту скорее следовало бы быть у меня, чем у тебя (уже по одному тому, что тебе читать Канта, Гегелеву феноменологию и логику – нипочем, а у меня трещит голова иногда и от твоих философских статей), – а вот у меня такого своего рода таланта ни больше ни меньше, как настолько, сколько нужно, чтобы понять, оценить и полюбить твой талант. И такие таланты необходимы и полезны не менее художественных. Если ты лет в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочного размеpa, – ты – большое имя в нашей литературе и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на современность. У тебя свой особенный род, под который подделываться так же опасно, как и под произведения истинного художества. Как Нос в гоголевской повести того же имени, ты можешь сказать о себе: «Я сам по себе!» Деятельные идеи и талантливое, живое их воплощение – великое дело, но только тогда, когда[182 - Далее зачеркнуто: оно] всё это неразрывно связано с личностию автора и относится к ней, как изображение на сургуче относится к выдавившей его печати. Этим-то ты и берешь. У тебя всё оригинально, всё свое – даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у тебя часто обращаются в достоинства. Так, например, к числу твоих личных недостатков принадлежит страстишка беспрестанно острить, но в твоих повестях такого рода выходки бывают удивительно хороши. Пиши, брат, пиши, как можно больше пиши, не для себя, а для дела: у тебя такой талант, за скрытие которого ты вполне заслужил бы проклятие. А об Рощине[829 - См. примеч. 2 к письму 254.] и «Отечественных записках» ты напрасно хлопочешь. За себя лично и за других я могу бояться худа; но в отношении к общему делу я предпочитаю быть оптимистом. Тебя смущает, что в литературе не останется органа благородных и умных убеждений. Это и так, да не так. Я уверен, что не пройдет двух лет, как я буду полным редактором журнала. Спекулянты не упустят основать журнал, рассчитывая именно на меня. Обо мне теперь знают многие такие, которые ничего не читают, и они смотрят на меня с уважением, как на человека, одаренного добродетельною способностию делать других богатыми, оставаясь нищим. «Отечественные записки» уже стары, и в них я сам стар, потому что, наладившись раз, как-то против моей воли иду одною и той же походкою. Я связан с этим журналом своего рода преданием: привык щадить людей, важных только для него, и вообще держаться тона не всегда моего, а часто тона журнала. Ведь и Рощин не мог же не отразить своей личности в своем журнале. Мне надо отдохнуть, во-1-х, для спасения жизни и восстановления (возможного) здоровья, а во-2-х, и для того, чтобы стрясти с сандалий моих прах «Отечественных записок», забыть, что я образовывал с ними[183 - Далее зачеркнуто: был] когда-то сиамских близнецов. Кроме того, у меня на памяти много грехов, наделанных во время оно в «Отечественных записках». И как хорошо, что мои статьи печатались без имени, и я в новом журнале всегда могу отпереться от того, что говорил встарь, если б меня стали уличать. Жизнь – премудреная вещь; иногда перемена квартиры освежает человека нравственно. Поверь мне, что все мы в новом журнале будем те же, да не те, и новый журнал не будет «Отечественными записками» не по одному имени. Я надеюсь, что буду издавать журнал. А с Рощиным мне делать нечего. Это страшно[184 - Первоначально: глубоко] ожесточенный эгоист, для которого люди – средство и либерализм – средство. Он очень умен по-своему и на Чичикова смотрит совсем не как на гения, как смотрим на него все мы, а как на своего брата Кондрата. Но в литературе он человек тупой и круглый невежда. Не пошли ему меня его счастливая звезда, его мерзкие «Отечественные записки» лопнули бы на втором годе. Повторяю: личность его не могла не отразиться на «Отечественных записках», и вот причина, почему в них так много балласту, почему толщину их все ставят в порок и почему, короче, они так гадки, несмотря на участие в них мое и многих порядочных людей. Я же не могу быть с человеком на торговых отношениях. Вот другое дело, если б хозяин «Отечественных записок» был Корш, – я готов бы остаться навсегда работником этого журнала. К Рощину у меня никогда не лежало сердце, но всё же я думал о нем лучше, чего он стоил. Оставаясь при нем, я должен лицемерить – на что у меня нет ни охоты, ни уменья. А писать у него изредка – вздор, дудки. Ему самому смертельно хочется этого, и он уже подъезжал ко мне через Панаева, да не надует. У него расчет верный: я напишу ему в год рецензий десятка два (разумеется, столько хороших, сколько это в моих средствах) да статьи три-четыре: направление и дух журнала спасется, а я за это получу много– много рублей 500 серебром в год. Кто же в дураках-то? А между тем, хоть и меньше, а всё срочная работа, и я из-за нее своего дела не буду делать, а от его работы сыт не буду. Он теперь мечется то к тому, то к другому, и никого не находит. Заказал статью Милановскому,[830 - О К. С. Милановском см. письмо 205 и примеч. 6 к нему.] которого уже не раз гонял от себя по шее, как пустого и гадкого мальчишку. Не знаю, что будет вперед, а пока я просто изумлен тем, как имя мое везде известно и в каком оно почете у российской публики: этого мне и во сне не снилось. Весть о разрыве давно уже прошла и в провинцию. Все подлецы и филистимляне петербургские (даже и совсем не литературные) в восторге, что у «Отечественных записок» волоса обрезаны, а сыны Израиля печалятся об этом. Р<ощин> этого не ожидал. Но теперь он, кажется, всё понял, но, думая, что я играю с ним комедию, хочет выждать и переломить меня. Посмотрим. В Москву он не поехал. У него <…> образовалась фистула, и он вытерпел довольно мучительную операцию и теперь лежит. Но, вероятно, оправившись, поедет надувать Галахова. С богом!
Кончаю письмо известием, что мы с Некрасовым взяли билет в мальпост на 26 апреля.
В. Б.
262. Д. П. Иванову
СПб. 1846, апреля 15
Любезный Дмитрий, 26 нынешнего месяца еду я в Москву, а 28 буду в ней.[831 - Белинский, действительно, приехал в Москву 28 апреля 1846 г. (см. письмо 263).] Ты когда-то писал, что квартира у тебя большая. Скажи мне, могу ли я остановиться у тебя на неделю, много дней на десять. В таком случае, уведомь меня, такого ли свойства твоя квартира, чтобы я мог возвращаться домой по ночам,[185 - Первоначально: поздно] и подумай о том беспокойстве, которое я этим буду тебе и твоему семейству оказывать; а подумавши, напиши немедленно искренний ответ. Мой адрес тот же, т. е.: На Невском проспекте, у Аничкина моста, в доме Лопатина, квартира № 43.[832 - Ответ Д. П. Иванова неизвестен.]
В. Белинский.
263. М. В. Белинской
Москва. 1846, мая 1
Вот уже четвертый день, как я в Москве, и всё еще не могу оправиться от проклятой дороги. Холод, дождь, слякоть, невозможность прилечь, необходимость сидеть – всё это порядочно измучило меня. Часто дождь проникал к нам сквозь стеклянную складную стору и живописно струился по ногам. Не возьми я зимних панталон и тулупа, я погиб бы. Погода в Москве такая же, как и в Петербурге. Вчера было солнце, но в то же время было ветрено и холодно. Сегодня, первое мая, решительно октябрьский день. Мочи нет, как всё это гадко. Ни зелени, ни деревьев – глубокая осень.
Дорога до того испорчена, особенно между Клином и Москвою, что мы приехали в воскресенье в 6 часов вечера. Друзья мои дожидались меня в почтамте с двух часов. Принят я был до того ласково и радушно, что это глубоко меня тронуло, хотя я и привык к дружескому вниманию порядочных людей. Безо всякой ложной скромности скажу, что мне часто приходит в голову мысль, что я не стою такого внимания. Что это за добрый, за радушный народ москвичи! Что за добрейшая душа Герцен! Как бы я желал, чтобы ты, Marie, познакомилась с ним. Да и все они – что за славный народ! Лучше, т. е. оригинальнее, всех принял меня Михаил Семенович:[833 - М. С. Щепкин.] готовясь облобызаться со мною, он пресерьезно сказал: «Какая мерзость!» Он глубоко презирает всех худых и тонких. Дамы просто носят меня на руках, братец ты мой: озябну, укутывают своими шалями; надевают на меня свои мантильи, приносят мне подушки, подают стулья. Таковы права старости, друг мой! Впрочем, Наталья Александровна (к которой я питаю какое-то немножко восторженно-идеальное чувство)[834 - Н. А. Герцен.] нашла, что я похорошел (заметь это) и поздоровел. Она так была мне рада, что я даже почувствовал к себе некоторое уважение. Вот как!
Едем мы 16, 17 или 18 мая, не прежде. Боюсь, что возвратимся довольно поздно. М<ихаил> С<еменович> хочет лечиться, кроме купанья, и виноградом. Это и мне будет очень полезно.
Сегодня поеду к твоему отцу, а завтра увижусь с Галаховым. Кстати: завтра друзья мои дают мне торжественный обед. На днях (как назначит Галахов) увижусь с Остроумовой.[835 - См. письмо 227 и примеч. 2 к нему.] Жду с нетерпением от тебя письма. Об Оле не могу вспомнить без беспокойства: так всё и кажется, что мой баран нездоров.[836 - См. примеч. 8 к письму 257.] В пятницу или субботу опять буду писать к тебе. А пока прощай, будь здорова и спокойна. Крепко жму твою руку.
Твой В. Белинский
264. М. В. Белинской
Москва. 1846, мая 4
Вот уже неделя, как я живу в Москве, а от тебя всё ни строки. Это начинает меня сильно беспокоить. Всё кажется, что то больна ты, то плохо с Ольгою, то нельзя вам выехать по множеству хлопот, то терпите вы от грубости людей.[837 - М. В. Белинская с дочерью собиралась выехать на дачу в Гапсаль.] Так всякая дрянь и лезет в голову и отнимает веселье, а без этого мне было бы в Москве довольно весело. Когда получу твое письмо, и в нем не будет ничего неприятного, то мне будет настоящим образом весело.
Погода в Москве до сих пор – ужас. Сегодня ночью шел сильный снег. От такой погоды здоров не будешь. Особенного ничего не чувствую, а всё-таки так нехорошо, и всё от проклятой погоды. В прошлом письме моем я забыл сказать тебе, что хваленая прочная пломбировка почти вся повыпала еще дорогою от употребления пищи, но без всякого участия пера или другого зубочистительного орудия. Уцелела только в нижнем зубу, и то сверху сошла. Ай да шарлатаны, чорт их возьми! Был у твоего «дражайшего».[838 - Отец М. В. Белинской. См. письмо 263.] Почтенный человек! Вот истинный-то представитель отсутствия добра и зла, олицетворенная пустота! Он, впрочем, был мне рад и много суетился, угощая меня чаем. Я ему об вас с Агриппиной,[839 - См. письмо 227 и примеч. 10 к нему.] а он всё о себе – так и лупит, так и наяривает. Только об Ольге послушал минуты две не без удовольствия. Я рассказал ему о твоих родах и заключил, что, несмотря на гнусность бабки, дело кончилось всё-таки хорошо. – А бог-то на что! – сказал он мне с убеждением. – Да, никто, как бог! – отвечал я ему с умилением. Живет он бедно, и страшно трусит смерти его княжны, угрожающей ему монастырем. Буду у него еще раз и позову к себе обедать. У Н. И. О<строумовой> еще но был, а буду во вторник – так назначил Галахов.
Здешний кружок живее нашего, и здешние дамы тоже поживее наших (благодари за комплимент). И для отдыха Москва вообще чудный город. Впрочем, и то сказать, теперь, как нарочно, почти все съехались туда в одно время, и оттого весело.
Сегодня дают мне обед; ему надо было быть в четверг, да по болезни Корша отложили до сегодня, а Корш-то всё-таки не выздоровел.[840 - Об обеде в честь Белинского Герцен писал 20/V 1846 г. из Москвы А. А. Краевскому: «Вероятно, вы слышали о r?ception monstre,[186 - необычайно грандиозном приеме (франц.). – Ред.] которое здесь было сделано Белинскому: огромный обед у Шевалье и дюжина обедов дружеских, потом проводы за 18 верст. Вам должно быть весьма приятно это признание «От. зап.» в главном деятеле их» (ПссГ, т. IV, стр. 413).]
Я уж не знаю, о чем больше и писать. И потому в ожиданий известия от тебя, ma ch?re Marie,[187 - моя милая Мари (франц.). – Ред.] и в чаянии, что вас уже нет в Питере, писать больше не буду до выезда из Москвы. Жму всем вам руки и от души всех вас целую – о собачке[841 - Так называл Белинский дочь Ольгу. См. примеч. 8 к письму 257.] и не говорю. Мамке кланяюсь. Прощай.
В. Б.
265. М. В. Белинской
Москва. 1846, мая 7
Наконец я имею о вас нечто вроде известия. По крайней мере, Тургенев уверил меня, что вы все здоровы, и сказал мне, что вы отправляетесь из Петербурга 11-го мая. Стало быть, это письмо получишь ты накануне своего отъезда, в пятницу. Надеюсь, что в этот день ты отправишь ко мне письмо. Я еду 15 или 16. К 1-му июня будем мы в Харькове, куда ты и можешь писать по следующему адресу: его высокоблагородию Николаю Дмитриевичу Алфераки; в собственном доме (Pour remettre ? M-r Belinsky).[188 - для передачи г-ну Белинскому (франц.). – Ред.] Из Харькова я уведомлю тебя, куда опять можешь ты писать ко мне. Затем прощай. Сегодня еду к Остроумовой
В. Б.
266. М. В. Белинской
<7–8 мая 1846 г. Москва.>
Москва. 1846, мая 7
Мне непременно нужно знать, когда именно думает ехать М<ихаил> С<еменович>. Я так и буду готовиться. Альманаха при мне напечатается листов до 15, остальные без меня (я поручаю надежному человеку), а к приезду моему он будет готов, а в октябре выпущу.
Здравствуй, Николай Платонович! наконец-то твое возвращение унес не миф. Я был на тебя сердит и больно, братец, а за что – спроси у Герцена. А теперь я хотел бы поскорей увидеть твою воинственную наружность и на радости такого созерцания выпить редереру – что это за вино, братец ты мой! Сатину и всем вам жму руку.[813 - Н. П. Огарев вернулся из-за границы в начале марта 1846 г. О недовольстве Белинского Огаревым см. письмо 254.]
В. Б.
259. В. И. Боткину
СПб. 1846, марта 26 (апреля 6)
Давно мы не видались, друг Василий Петрович, и давно не подавали друг другу голоса.[814 - Последнее известное письмо Белинского к Боткину этого времени – от 24/V 1843 г. (№ 221). О том, что Белинский писал ему и позже, свидетельствует ответ Боткина от 6/VII 1845 г. («Литер. мысль», II, 1923, стр. 188). Кроме того, известны 4 письма Боткина к Белинскому за 1844–1845 гг. (там же, стр. 183–187).] Что до меня, мне все переписки надоели и я стал на письма так же ленив, как во время оно (глупое время!) был ретив. Сверх того, я и боюсь переписки: она годна только для недоразумений. Что при свидании решается двумя-тремя словами к обоюдному удовольствию, то в разлуке служит поводом к огромной переписке, где всё перепутывается. Это я много раз испытал, и пора мне воспользоваться уроком опыта. О себе писать мне просто противно, а больше ведь у нас не о чем писать. Скоро увидимся – тогда вновь познакомимся друг с другом – говорю: познакомимся, потому что после трехлетней разлуки ни я, ни ты – не то, что были.[815 - Боткин возвратился из-за границы (куда он уехал в сентябре 1843 г.) около ноября 1846 г. (см. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 520).] Мая 30, а по-вашему, по-басурманскому, июня 11-го,[816 - Родился Белинский 1 июня 1811 г., следовательно, в 1846 г. ему было 35, а не 36 лет (см. об этом Письма, т. III, стр. 352–354, а также «Новое время» 1910, № 12364 от 14/VIII).] стукнет мне 36 лет,[171 - Далее зачеркнуто: а так почти] осенью три года, как я женат, и моей дочери теперь девять месяцев. В это время я пережил да передумай (и уже не головою, как прежде), право, лет за 30. Пройдут незаметно и еще 4 года – и мне 40 лет – страшно! Вот она и старость! Ну, да довольно об этом.
Спасибо тебе за письма об Испании и Танжере.[817 - См. примеч. 14 к письму 256.] Они прекрасны, и из них для моего альманаха выходит превосходная и преинтересная статья. Спасибо тебе за согласие отдать их мне.
Желал бы я знать, когда именно воротишься ты, да я думаю, пока ты и сам этого не знаешь. Я еду с М. С. Щ<епкиным> в Новороссию (в Одессу и Крым). Воротимся мы в октябре. Вот мне и хотелось бы в Питере столкнуться с тобою, а не то хоть в Москве, но лишь бы не разъехаться дорогою.
О моем здоровье и частию моих обстоятельствах узнаешь от Николая Петровича;[818 - H. П. Боткин. Видимо, он ехал за границу и письмо было передано через него.] а в дополнение[172 - Первоначально: а о новостях в дополнение ко всему] прочти письмо к Анненкову.[819 - Это письмо не сохранилось.]
Мишелю жму руку. О семействе его не имею никаких известий.[173 - Первоначально: новостей] Слышал от Беера, что А<лександра> А<лександровна> родила дочь, а больше ничего не знаю.
Странное дело! при мысли о свидании с тобою мне всё кажется, будто мы расстались молодыми, а свидимся стариками, и от этой мысли мне и грустно, и больно, и почти что страшно. Молодыми! Нет, я не был молод никогда, потому что всегда жил головой и сумел даже и из сердца сделать голову – отчего и вышла преуродливая голова.
Прощай, до свидания, надеюсь, скорого.
В. Б.
260. П. Н. Кудрявцеву
СПб. 1846, марта 26
Дражайший Петр Николаевич. Тысячекратно благодарю Вас за дружескую готовность снабдить меня Вашею повестью, спешу уведомить Вас, что мой альманах выйдет осенью и что, следовательно, если Вы послали повесть, то Вам нечего беспокоиться о том, что опоздаете.[820 - Повесть Кудрявцева «Без рассвета». См. примеч. 19 к письму 253 и письмо 268.] Если же не послали, то вышлите поскорее. Желал бы я узнать что-нибудь о Вас, тем более что обо мне Вы кое-что знаете через Анненкова. Что Вы, как Вы? Да хранит Вас судьба от сифилитического влияния шеллингианизма, пиэтистицизма,[174 - Далее зачеркнуто: и неметчи<ны?>] это пуще всего.[821 - Кудрявцев в это время был в Берлине. Об отношении Белинского к философии Шеллинга см. письма 199, 204, 268, 289.] Надеюсь, что Вы здоровы и обретаетесь в духе. Затем, не имея ничего более писать, желаю Вам всего хорошего. Жена моя, ее сестра Вам усердно кланяются, а за мою дочь, по причине ее малолетства и безграмотности, кланяюсь Вам я, равно как и за себя.
Ваш В. Б.
261. А. И. Герцену
СПб. 1846, апреля 6
Вчера записал было я к тебе письмо, сегодня хотел кончить, а теперь бросаю его и пишу новое, потому что получил твое, которого так долго ждал.[822 - Это письмо Герцена не сохранилось.] Признаюсь, я начал было беспокоиться, думая, что и на мою поездку на юг (о которой даже во сне брежу) чорт наложит свой хвост. Что ты мне толкуешь о важности и пользе для меня от этой поездки: я сам слишком хорошо понимаю это и еду не только за здоровьем, но и за жизнию. Дорога, воздух, климат, лень, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и всё это с таким спутником, как М<ихаил> С<еменович>, – да я от одной мысли об этом чувствую себя здоровее. И мой доктор (очень хороший доктор, хотя и не Крупов[823 - Шутливый намек на повесть Герцена «Записки доктора Крупова».]) сказал мне, что по роду моей болезни такая поездка лучше всяких лекарств и лечений. Итак, М<ихаил> С<еменович> едет решительно, и я знаю теперь, когда и <я> могу готовиться. Разве только что-нибудь непредвиденное и необыкновенное заставит меня отказаться; но во всяком случае я на днях беру место[175 - Первоначально: билет] в мальпост. Вчера я именно о том и писал к тебе, чтобы ты как можно скорее уведомил меня, едет ли М<ихаил> С<еменович> и когда именно. Вот почему сегодняшнее письмо твое ужасно обрадовало меня, так что куда девалась лень, и я сейчас же сел писать ответ, несмотря на то, что А. А. Т<учков>[824 - См. письмо 248 и примеч. 2 к нему.] едет во вторник. Известие об обретении явленных 500 р. – тоже не последнее обстоятельство в письме твоем, меня обрадовавшее. Только этих денег ты мне не высылай, а отдай[176 - Первоначально: приш<ли>] мне их в Москве. Оно проще, и хлопот меньше. На лето мне и семейству денег станет; может быть, станет их на месяц и по-приезде в Питер, а там – что будет, то и будет, а пока – vogue la gal?re![177 - была не была! (Франц.) – Ред.] Нашему брату подлецу, т. е. нищему, а не то чтобы мошеннику, даже полезно иногда довериться случаю и положиться на авось. Делать-то больше нечего, а притом, если такая поведенция может сгубить, то она же иногда может и спасти.
Ну, братец ты мой, спасибо тебе за интермедию к «Кто виноват?»[825 - Белинский имеет в виду эпизод из повести «Кто виноват?» – «Владимир Бельтов» (см. письмо 253, примеч. 16).] Я из нее окончательно убедился, что ты – большой человек в нашей литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего делать. Ты не поэт: об этом смешно и толковать; но ведь и Вольтер не был поэт не только в «Генриаде», но и в «Кандиде», – однако его «Кандид» потягается в долговечности со многими великими художественными созданиями, а многие не великие уже пережил и еще больше переживет их. У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию, – и потому в своих творениях, как поэты, они страшно, огромно умны, а как люди – ограниченны и чуть не глупы (Пушкин, Гоголь). У тебя, как у натуры по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборот – талант и фантазия ушли в ум,[178 - Далее зачеркнуто: а сердце] оживленный и согретый, так сказать, осердеченный гуманистическим направлением, не привитым и не вычитанным, а присущим твоей натуре. У тебя страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку; у тебя много и таланта и фантазии, но не того чистого и самостоятельного таланта, который всё родит сам из себя и пользуется умом как низшим, подчиненным ему началом, – нет, твой талант – чорт его знает[179 - Далее зачеркнуто: какой-то незаконнорожденный] – такой же батард[826 - От французского b?tard – внебрачный ребенок.] или пасынок в отношении к твоей натуре, как и ум в отношении к художественным натурам. Не умею яснее выразиться, но уверен, что ты поймешь это лучше меня (если еще не думал об этом вопросе) и мне же выскажешь это так ясно и определенно, что я закричу: эврика! эврика![827 - От греческого ?????? – нашел.] Есть умы чисто спекулятивные, для которых мышление почти то же, что чистая математика, – и вот когда такие принимаются за поэзию, у них выходят[180 - Далее зачеркнуто: чисто] аллегории, которые тем глупее, чем умнее. Сочетание сухого и даже влажного и теплого ума с бездарностию родит[181 - Первоначально: производит] камни и полена, которые показывала вместо детей Рея Кроносу.[828 - В основе мифа о Рее и Кроносе лежит рассказ о предсказании Кроносу, что один из сыновей лишит его престола. После этого предсказания Кронос съедал своих новорожденных детей. Но Рея спасла Зевса, подсунув, вместо него, Кроносу камень, завернутый в пеленку.] Но у тебя, при уме живом и осердеченном, есть своего рода талант – в чем он состоит, не умею сказать; но дело в том, что я глупее тебя на много раз, искусство (если не ошибаюсь) мне сроднее, чем тебе, фантазия у меня преобладает над умом, и, кажись, по всему этому такому своего рода таланту скорее следовало бы быть у меня, чем у тебя (уже по одному тому, что тебе читать Канта, Гегелеву феноменологию и логику – нипочем, а у меня трещит голова иногда и от твоих философских статей), – а вот у меня такого своего рода таланта ни больше ни меньше, как настолько, сколько нужно, чтобы понять, оценить и полюбить твой талант. И такие таланты необходимы и полезны не менее художественных. Если ты лет в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочного размеpa, – ты – большое имя в нашей литературе и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на современность. У тебя свой особенный род, под который подделываться так же опасно, как и под произведения истинного художества. Как Нос в гоголевской повести того же имени, ты можешь сказать о себе: «Я сам по себе!» Деятельные идеи и талантливое, живое их воплощение – великое дело, но только тогда, когда[182 - Далее зачеркнуто: оно] всё это неразрывно связано с личностию автора и относится к ней, как изображение на сургуче относится к выдавившей его печати. Этим-то ты и берешь. У тебя всё оригинально, всё свое – даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у тебя часто обращаются в достоинства. Так, например, к числу твоих личных недостатков принадлежит страстишка беспрестанно острить, но в твоих повестях такого рода выходки бывают удивительно хороши. Пиши, брат, пиши, как можно больше пиши, не для себя, а для дела: у тебя такой талант, за скрытие которого ты вполне заслужил бы проклятие. А об Рощине[829 - См. примеч. 2 к письму 254.] и «Отечественных записках» ты напрасно хлопочешь. За себя лично и за других я могу бояться худа; но в отношении к общему делу я предпочитаю быть оптимистом. Тебя смущает, что в литературе не останется органа благородных и умных убеждений. Это и так, да не так. Я уверен, что не пройдет двух лет, как я буду полным редактором журнала. Спекулянты не упустят основать журнал, рассчитывая именно на меня. Обо мне теперь знают многие такие, которые ничего не читают, и они смотрят на меня с уважением, как на человека, одаренного добродетельною способностию делать других богатыми, оставаясь нищим. «Отечественные записки» уже стары, и в них я сам стар, потому что, наладившись раз, как-то против моей воли иду одною и той же походкою. Я связан с этим журналом своего рода преданием: привык щадить людей, важных только для него, и вообще держаться тона не всегда моего, а часто тона журнала. Ведь и Рощин не мог же не отразить своей личности в своем журнале. Мне надо отдохнуть, во-1-х, для спасения жизни и восстановления (возможного) здоровья, а во-2-х, и для того, чтобы стрясти с сандалий моих прах «Отечественных записок», забыть, что я образовывал с ними[183 - Далее зачеркнуто: был] когда-то сиамских близнецов. Кроме того, у меня на памяти много грехов, наделанных во время оно в «Отечественных записках». И как хорошо, что мои статьи печатались без имени, и я в новом журнале всегда могу отпереться от того, что говорил встарь, если б меня стали уличать. Жизнь – премудреная вещь; иногда перемена квартиры освежает человека нравственно. Поверь мне, что все мы в новом журнале будем те же, да не те, и новый журнал не будет «Отечественными записками» не по одному имени. Я надеюсь, что буду издавать журнал. А с Рощиным мне делать нечего. Это страшно[184 - Первоначально: глубоко] ожесточенный эгоист, для которого люди – средство и либерализм – средство. Он очень умен по-своему и на Чичикова смотрит совсем не как на гения, как смотрим на него все мы, а как на своего брата Кондрата. Но в литературе он человек тупой и круглый невежда. Не пошли ему меня его счастливая звезда, его мерзкие «Отечественные записки» лопнули бы на втором годе. Повторяю: личность его не могла не отразиться на «Отечественных записках», и вот причина, почему в них так много балласту, почему толщину их все ставят в порок и почему, короче, они так гадки, несмотря на участие в них мое и многих порядочных людей. Я же не могу быть с человеком на торговых отношениях. Вот другое дело, если б хозяин «Отечественных записок» был Корш, – я готов бы остаться навсегда работником этого журнала. К Рощину у меня никогда не лежало сердце, но всё же я думал о нем лучше, чего он стоил. Оставаясь при нем, я должен лицемерить – на что у меня нет ни охоты, ни уменья. А писать у него изредка – вздор, дудки. Ему самому смертельно хочется этого, и он уже подъезжал ко мне через Панаева, да не надует. У него расчет верный: я напишу ему в год рецензий десятка два (разумеется, столько хороших, сколько это в моих средствах) да статьи три-четыре: направление и дух журнала спасется, а я за это получу много– много рублей 500 серебром в год. Кто же в дураках-то? А между тем, хоть и меньше, а всё срочная работа, и я из-за нее своего дела не буду делать, а от его работы сыт не буду. Он теперь мечется то к тому, то к другому, и никого не находит. Заказал статью Милановскому,[830 - О К. С. Милановском см. письмо 205 и примеч. 6 к нему.] которого уже не раз гонял от себя по шее, как пустого и гадкого мальчишку. Не знаю, что будет вперед, а пока я просто изумлен тем, как имя мое везде известно и в каком оно почете у российской публики: этого мне и во сне не снилось. Весть о разрыве давно уже прошла и в провинцию. Все подлецы и филистимляне петербургские (даже и совсем не литературные) в восторге, что у «Отечественных записок» волоса обрезаны, а сыны Израиля печалятся об этом. Р<ощин> этого не ожидал. Но теперь он, кажется, всё понял, но, думая, что я играю с ним комедию, хочет выждать и переломить меня. Посмотрим. В Москву он не поехал. У него <…> образовалась фистула, и он вытерпел довольно мучительную операцию и теперь лежит. Но, вероятно, оправившись, поедет надувать Галахова. С богом!
Кончаю письмо известием, что мы с Некрасовым взяли билет в мальпост на 26 апреля.
В. Б.
262. Д. П. Иванову
СПб. 1846, апреля 15
Любезный Дмитрий, 26 нынешнего месяца еду я в Москву, а 28 буду в ней.[831 - Белинский, действительно, приехал в Москву 28 апреля 1846 г. (см. письмо 263).] Ты когда-то писал, что квартира у тебя большая. Скажи мне, могу ли я остановиться у тебя на неделю, много дней на десять. В таком случае, уведомь меня, такого ли свойства твоя квартира, чтобы я мог возвращаться домой по ночам,[185 - Первоначально: поздно] и подумай о том беспокойстве, которое я этим буду тебе и твоему семейству оказывать; а подумавши, напиши немедленно искренний ответ. Мой адрес тот же, т. е.: На Невском проспекте, у Аничкина моста, в доме Лопатина, квартира № 43.[832 - Ответ Д. П. Иванова неизвестен.]
В. Белинский.
263. М. В. Белинской
Москва. 1846, мая 1
Вот уже четвертый день, как я в Москве, и всё еще не могу оправиться от проклятой дороги. Холод, дождь, слякоть, невозможность прилечь, необходимость сидеть – всё это порядочно измучило меня. Часто дождь проникал к нам сквозь стеклянную складную стору и живописно струился по ногам. Не возьми я зимних панталон и тулупа, я погиб бы. Погода в Москве такая же, как и в Петербурге. Вчера было солнце, но в то же время было ветрено и холодно. Сегодня, первое мая, решительно октябрьский день. Мочи нет, как всё это гадко. Ни зелени, ни деревьев – глубокая осень.
Дорога до того испорчена, особенно между Клином и Москвою, что мы приехали в воскресенье в 6 часов вечера. Друзья мои дожидались меня в почтамте с двух часов. Принят я был до того ласково и радушно, что это глубоко меня тронуло, хотя я и привык к дружескому вниманию порядочных людей. Безо всякой ложной скромности скажу, что мне часто приходит в голову мысль, что я не стою такого внимания. Что это за добрый, за радушный народ москвичи! Что за добрейшая душа Герцен! Как бы я желал, чтобы ты, Marie, познакомилась с ним. Да и все они – что за славный народ! Лучше, т. е. оригинальнее, всех принял меня Михаил Семенович:[833 - М. С. Щепкин.] готовясь облобызаться со мною, он пресерьезно сказал: «Какая мерзость!» Он глубоко презирает всех худых и тонких. Дамы просто носят меня на руках, братец ты мой: озябну, укутывают своими шалями; надевают на меня свои мантильи, приносят мне подушки, подают стулья. Таковы права старости, друг мой! Впрочем, Наталья Александровна (к которой я питаю какое-то немножко восторженно-идеальное чувство)[834 - Н. А. Герцен.] нашла, что я похорошел (заметь это) и поздоровел. Она так была мне рада, что я даже почувствовал к себе некоторое уважение. Вот как!
Едем мы 16, 17 или 18 мая, не прежде. Боюсь, что возвратимся довольно поздно. М<ихаил> С<еменович> хочет лечиться, кроме купанья, и виноградом. Это и мне будет очень полезно.
Сегодня поеду к твоему отцу, а завтра увижусь с Галаховым. Кстати: завтра друзья мои дают мне торжественный обед. На днях (как назначит Галахов) увижусь с Остроумовой.[835 - См. письмо 227 и примеч. 2 к нему.] Жду с нетерпением от тебя письма. Об Оле не могу вспомнить без беспокойства: так всё и кажется, что мой баран нездоров.[836 - См. примеч. 8 к письму 257.] В пятницу или субботу опять буду писать к тебе. А пока прощай, будь здорова и спокойна. Крепко жму твою руку.
Твой В. Белинский
264. М. В. Белинской
Москва. 1846, мая 4
Вот уже неделя, как я живу в Москве, а от тебя всё ни строки. Это начинает меня сильно беспокоить. Всё кажется, что то больна ты, то плохо с Ольгою, то нельзя вам выехать по множеству хлопот, то терпите вы от грубости людей.[837 - М. В. Белинская с дочерью собиралась выехать на дачу в Гапсаль.] Так всякая дрянь и лезет в голову и отнимает веселье, а без этого мне было бы в Москве довольно весело. Когда получу твое письмо, и в нем не будет ничего неприятного, то мне будет настоящим образом весело.
Погода в Москве до сих пор – ужас. Сегодня ночью шел сильный снег. От такой погоды здоров не будешь. Особенного ничего не чувствую, а всё-таки так нехорошо, и всё от проклятой погоды. В прошлом письме моем я забыл сказать тебе, что хваленая прочная пломбировка почти вся повыпала еще дорогою от употребления пищи, но без всякого участия пера или другого зубочистительного орудия. Уцелела только в нижнем зубу, и то сверху сошла. Ай да шарлатаны, чорт их возьми! Был у твоего «дражайшего».[838 - Отец М. В. Белинской. См. письмо 263.] Почтенный человек! Вот истинный-то представитель отсутствия добра и зла, олицетворенная пустота! Он, впрочем, был мне рад и много суетился, угощая меня чаем. Я ему об вас с Агриппиной,[839 - См. письмо 227 и примеч. 10 к нему.] а он всё о себе – так и лупит, так и наяривает. Только об Ольге послушал минуты две не без удовольствия. Я рассказал ему о твоих родах и заключил, что, несмотря на гнусность бабки, дело кончилось всё-таки хорошо. – А бог-то на что! – сказал он мне с убеждением. – Да, никто, как бог! – отвечал я ему с умилением. Живет он бедно, и страшно трусит смерти его княжны, угрожающей ему монастырем. Буду у него еще раз и позову к себе обедать. У Н. И. О<строумовой> еще но был, а буду во вторник – так назначил Галахов.
Здешний кружок живее нашего, и здешние дамы тоже поживее наших (благодари за комплимент). И для отдыха Москва вообще чудный город. Впрочем, и то сказать, теперь, как нарочно, почти все съехались туда в одно время, и оттого весело.
Сегодня дают мне обед; ему надо было быть в четверг, да по болезни Корша отложили до сегодня, а Корш-то всё-таки не выздоровел.[840 - Об обеде в честь Белинского Герцен писал 20/V 1846 г. из Москвы А. А. Краевскому: «Вероятно, вы слышали о r?ception monstre,[186 - необычайно грандиозном приеме (франц.). – Ред.] которое здесь было сделано Белинскому: огромный обед у Шевалье и дюжина обедов дружеских, потом проводы за 18 верст. Вам должно быть весьма приятно это признание «От. зап.» в главном деятеле их» (ПссГ, т. IV, стр. 413).]
Я уж не знаю, о чем больше и писать. И потому в ожиданий известия от тебя, ma ch?re Marie,[187 - моя милая Мари (франц.). – Ред.] и в чаянии, что вас уже нет в Питере, писать больше не буду до выезда из Москвы. Жму всем вам руки и от души всех вас целую – о собачке[841 - Так называл Белинский дочь Ольгу. См. примеч. 8 к письму 257.] и не говорю. Мамке кланяюсь. Прощай.
В. Б.
265. М. В. Белинской
Москва. 1846, мая 7
Наконец я имею о вас нечто вроде известия. По крайней мере, Тургенев уверил меня, что вы все здоровы, и сказал мне, что вы отправляетесь из Петербурга 11-го мая. Стало быть, это письмо получишь ты накануне своего отъезда, в пятницу. Надеюсь, что в этот день ты отправишь ко мне письмо. Я еду 15 или 16. К 1-му июня будем мы в Харькове, куда ты и можешь писать по следующему адресу: его высокоблагородию Николаю Дмитриевичу Алфераки; в собственном доме (Pour remettre ? M-r Belinsky).[188 - для передачи г-ну Белинскому (франц.). – Ред.] Из Харькова я уведомлю тебя, куда опять можешь ты писать ко мне. Затем прощай. Сегодня еду к Остроумовой
В. Б.
266. М. В. Белинской
<7–8 мая 1846 г. Москва.>
Москва. 1846, мая 7