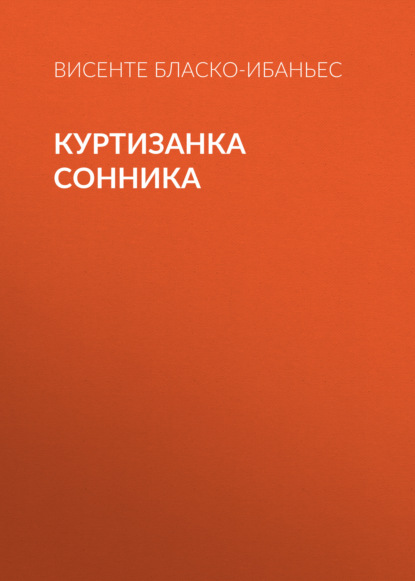По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Куртизанка Сонника
Автор
Жанр
Год написания книги
1900
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А Сагунт? Если вы оставите его, как он справится с дерзостью Ганнибала, собравшего под своим начальством самые воинственные племена Иберии? Что скажут эти несчастные о верности Рима своим обещаниям?
– Постарайся убедить сенат всеми этими доводами. Я вижу в Карфагене единственного врага Рима… Но если бы все были как я!.. Мы поняли бы дерзость сына Гамилькара, объявили бы войну Карфагену и прогнали его в его владение… Пусть будет что будет, мы непобедимы… Италия – плотная масса, и пограничные земли, как часовые, стоящие на страже нашего лагеря, на востоке – Империя, в части, обращенной к Африке, – Сицилия, а на западе – Сардиния образуют пояс в девятьсот миль, захватывающий большую часть африканских берегов и всю Иберию. Однако он настолько длинен и состоит из стольких различных племен, что разорваться ему нетрудно. Конечно, если бы Рим проиграл даже сто сражений, он все равно остался бы Римом. И одной победы Карфагена недостаточно, чтобы уничтожить его как народ, но все же…
– Если бы все думали как ты, Катон!
– Если бы сенат думал как я, он оставил бы Деметрия Фаросского и отправил бы свои легионы в Сагунт. Таким образом, избежали бы на этот раз одной опасности: кто знает, куда зайдет этот африканский юнец и на что осмелится, если беспрепятственно овладеет городом – союзником Рима? Но мнение мое, свободного гражданина, педагога, имеет мало значения. Мальчик этот – сын консула Публия Корнелия Сципиона, и в нем с новой силой возрождаются все добродетели его семьи. Кто знает, может быть, ему суждено остановить движение Ганнибала, положить конец дерзкому могуществу Карфагена, с которым мы вечно враждуем.
Они немного побродили по Форуму, разговаривая о римских обычаях и горячо споря при сравнении их с афинскими. Строгий римлянин простился с греком, сказав, что ему надо повидаться с несколькими патрициями по своим личным делам, к которым он относился с чрезвычайной добросовестностью.
Оставшись один, Актеон почувствовал, что он голоден. До часа, когда собирался сенат, было еще долго, и, утомленный шумным движением на Форуме, Актеон пошел вдоль подножия Капитолия по улице менее широкой, чем другие, с каменными зданиями, через отворенные двери которых можно было видеть относительное благосостояние патрицианских семей, живших в этих домах.
Грек вошел в булочную и постучал палкой о каменную конторку, за которой никого не было. Из подобия подвала раздался жалобный голос, и Актеон увидел в темной яме жернова для размалывания пшеницы и запряженного в него человека, раба, приводившего его в движение с чрезвычайным усилием.
Раб вышел, почти голый, отирая пот, катившийся с лица, и, взяв деньги у грека, подал ему хлеб. Затем он продолжал стоять, с любопытством рассматривая Актеона.
– Ты булочник? – спросил последний.
– Нет, я только раб, – ответил он грустно. – Хозяин ушел на Форум, чтобы переговорить с хлеботорговцами… Не правда ли – ты грек?
И прежде чем Актеон соблаговолил подтвердить это, раб продолжал с грустной гордостью:
– Не всегда я был рабом. Я им стал совсем недавно. А когда я был свободным, моим горячим желанием было поспешить в твою страну. О Афины! Город, где поэты – боги…
И он прочел по-гречески несколько стихов из Прометея Эсхила, изумляя Актеона чистотой своего произношения и выражением, которое умел придать своим словам.
– В Риме ваши хозяева дают вам возможность посвящать себя поэзии? – спросил афинянин, смеясь.
– Я был поэтом прежде, чем стал рабом. Меня зовут Плавтом.
И, озираясь, будто боясь, что его застанет кто-нибудь из семьи хозяина, он продолжал говорить, счастливый, что освободился на несколько минут от мучительной работы верчения жернова.
– Я писал комедии. Хотел основать в Риме театр, у вас стоящий почти наравне с религией. Но римляне – народ, неотзывчивый к поэзии. Они любят фразы; трагедия, заставляющая вас плакать, оставляет их холодными; комедия Аристофана усыпляет. Им нравятся только этрусские игры, смешные действующие лица фарсов и маски с острыми зубами и безобразными головами, идущие, изрыгая неприличности, в торжественных триумфальных процессиях. Они способны побить камнями героя ваших трагедий и, наоборот, кричать, как ослы, от удовольствия, видя при въезде консула-победителя солдат, наряженных в козлиные шкуры с султанами из щетинистой гривы, и смеются, видя, как они мстят за свое унижение, оскорбляя победителя на его триумфальной колеснице. Я писал комедии для этой публики и пишу их также теперь, когда мой хозяин освобождает меня от верчения жернова. Патриции и свободные граждане не любят стихов на сцене. Здесь презирают Аристофана, осмеявшего с подмостков первых людей Афин. Мои герои – рабы, чужеземцы и наемники – заставляют смеяться публику. В этой войне я сочинил комедию, где осмеиваю хвастовство воинов. Я бы прочел ее тебе, если бы не боялся, что вот-вот вернется хозяин.
– Как же ты попал в такое жалкое положение, после того как забавлял свой народ?
– Я имел безумие основать в Риме первый театр, наподобие греческих. Это была круглая сцена в городском предместье. Я истратил занятые деньги, влез в долги: народ приходил смеяться, но платил мало. Я разорился, а мудрые римские законы присудили мне, когда я не мог заплатить, стать рабом моего кредитора. Этот булочник, прежде восхищавшийся моими комедиями и давший мне взаймы несколько мешков меди, теперь мстит мне за прежнее восхищение, заставляя вертеть жернов, как какого-нибудь осла. Каждый взрыв смеха в прошлом возмещается палкой на моей спине. Такова судьба поэтов. Даже вы платили за стихи Эсхила, человека свободного, бросая в него камни.
Плавт замолк и затем с грустной улыбкой прибавил:
– Уповаю на будущее. Не всегда мне оставаться рабом. Я встречу когда-нибудь человека, который освободит меня. Римляне, ведущие войну в далеких странах, возвращаются с более мягкими привычками и любят искусство. Я буду свободен, выстрою новый театр, и тогда… тогда…
Лицо его озарилось надеждой, будто он уже видел осуществление мечты, скрашивавшей темноту подвала, где он вертел огромный каменный круг.
Внутри дома послышался шум, и, прежде чем сыновья хозяина могли увидеть его, Плавт поспешно вернулся к жернову, между тем как грек вышел из булочной, омраченный встречей.
«Что это за народ, который превращает должников в рабов, а поэтов – во вьючную скотину?»
Грек съел свой хлеб, гуляя по Форуму. Он ожидал часа собрания сената и, чтобы заполнить время, взошел на вершину Палатинского холма – священного места, колыбели Рима. Там он увидел волчье логовище, где волчица вскормила Ромула и Рема. При входе в священную пещеру раскинула свои ветви, теперь обнаженная, смоковница Ромула и Рема – знаменитое дерево, в тени которого играли исторические близнецы, основатели города. Рядом с деревом, на гранитном пьедестале возвышалось изображение волчицы из темной блестящей бронзы – произведение этрусского художника – с полуоткрытой пастью и двумя рядами больших сосков на брюхе, к которым присосались, теребя их, два голых мальчика.
Актеон смотрел с вершины холма на огромный город, представлявшийся собранием крыш между семью холмами. Дома взбирались на возвышенности и были разбросаны по долинам. Между ними, почти рядом с Палатинским холмом, возвышался Капитолий – крепость Рима – на отвесной бесплодной Торпейской скале. Грек перешел туда, чтобы осмотреть поближе храм Юпитера Капитолийского, более знаменитого своей славой, чем красотой.
Пройдя мимо лишенного всяких украшений храма Марса, стоявшего на вершине Палатинского холма, Актеон по крутой извилистой тропе перешел к Капитолию. Он встретил на своем пути жрецов Юпитера, выступавших важной поступью, будто принося постоянную жертву своему богу; видел мерно выступающих весталок, закутанных в белые покрывала. Из храма Марса вышли несколько легионеров, закованных в латы из медных полос, похожих одна на другую; обнаженные бедра прикрывались только шерстяными полосами, висевшими с пояса. Они шли, держась за рукоятки своих коротких мечей и оживленно разговаривая о предстоящем походе в Империю, но ни одним словом не вспомнили о положении иберийских союзников.
Актеон вступил в священную ограду Капитолия, окруженного мрачными стенами. Тут была старинная Торпейская скала с двумя вершинами, соединенными большой площадкой. На более высокой – северной – помещалась цитадель Рима, на южной – храм Юпитера Капитолийского, окруженный крепкими колоннами.
Актеон вошел в цитадель, прославившуюся своей защитой во время нашествия галлов. По краю лужи, среди храмов, примыкавших к твердыне, он увидел священных птиц, гусей, предупредивших своим криком среди ночной тишины о готовящемся нападении галлов. Затем по нижней площадке, делившей холм как бы на две части, Актеон подошел к великому римскому святилищу.
Лестница в семь ступеней вела к храму, построенному во времена последнего Тарквиния в честь трех римских божеств – Юпитера, Юноны и Минервы. Здание состояло из трех отделений, параллельных трем открытым дверям на одном фронтоне. Среднее отделение было посвящено Юпитеру, оба крайних – двум другим божествам. Фронтон, по углам которого возвышалось несколько каменных лошадей грубой работы, поддерживал тройной ряд колонн. По боковым сторонам тянулись два ряда колонн, образуя портик, под тенью которого прохаживались очень старые римляне, обсуждая городские дела.
Храм был построен архитекторами, вызванными из Этрурии, и под колоннами виднелись статуи, привезенные из Сицилии и с других войн, которые вел Рим. Этот суровый народ был не способен производить художников: у него были солдаты, снабжавшие его художественными произведениями путем захвата и грабежа.
Афинянин вошел в среднее отделение, посвященное Юпитеру, и увидел изображение бога из обожженной глины, с позолоченным копьем в деснице. Перед изображением неугасимо курился жертвенный алтарь. На верхушке храма гномон – солнечные часы показывали со своей высоты время всему Риму.
Пора было отправляться в Сенакулум – старинное здание у подножия Торпейской скалы, между Капитолием и Форумом, много лет спустя превращенное в храм Согласия. На ступенях, ведущих к Сенакулуму, Актеон встретил двух послов, отправленных Сагунтом еще до начала осады: двух старых земледельцев, в первый раз в жизни растерявшихся и сознававших свое бессилие за несколько месяцев пребывания в Риме, прошедших в бесконечных посещениях сенаторов, свиданиях с ними и убеждениях, не приводивших ни к чему. Оба сагунтинца, растерявшиеся и сознававшие свое бессилие перед городом, все не дававшим окончательного ответа на их просьбы, последовали, как автоматы, за развязным греком, везде чувствовавшим себя как дома и говорившим на разных языках, будто весь свет был его родителем.
Собрались сенаторы. Одни пришли после своих городских дел и явились в белых тогах с красной каймой, сопровождаемые клиентами, пролагавшими дорогу, как бы желая привлечь внимание к своим величественным покровителям. Другие, прибывшие из деревни, оставляли свои повозки у ступеней Сенакулума и, передав вожжи рабам, восходили по лестнице с перевешенной через руку тогой, одетые в короткую юбку из грубой шерсти, какую обыкновенно носили земледельцы, и распространяющие вокруг себя запах своих конюшен и хлевов. Это были все люди зрелых лет, по крепкой мускулатуре их можно было сразу видеть, какую им приходилось вести жизнь в постоянной борьбе с землей и с врагами; были и старики с длинными бородами и высохшими лицами, дрожавшие от старости, но со взглядом, выражавшим сознание прежних сил. Толпа, двигавшаяся по Форуму у ступеней Сенакулума, смотрела на них с восторгом и почтением: они были отцами республики, головой Рима.
Посланцы Сагунта поднялись по лестнице храма. Под колоннами, поддерживающими фронтон, были навалены груды вещей, награбленных в последние войны и принесенные на Форум во время триумфального шествия победителей среди толпы, приветствовавшей их, размахивая лавровыми ветвями. Актеон видел щиты, пробитые стрелами, мечи со следами крови, большие колесницы с отломанными дышлами и позолотой, загрязненной глиной поля битвы. Это были трофеи самнитской войны. А дальше, по стенам, тянулся целый ряд деревянных фигур, окрашенных в красный и синий цвет, снятых с носов карфагенских кораблей после великой победы при Эгастских островах. Тут же лежали железные скобы с ворот многих городов, завоеванных римлянами: золотые значки с изображением фантастических животных, раскачивавшиеся над войсками Пирра, огромные клыки слонов, с которыми эти африканцы шли против римских легионов, шлемы лигурийцев с рогами или орлиными крыльями, стрелы альпийских племен, а возле дверей, как почетный трофей, – доспехи славного Камилла, пронесенные по городу с триумфом после того, как великий римлянин прогнал галлов из Капитолия. На одной из стен висело странное украшение – огромный черный кусок, напоминавший пергамент. Это была кожа большой змеи, в продолжение целого дня задерживавшей все войско Атилия Регула на его пути к завоеванию в Африке Карфагена. Это чудовище, неуязвимое для стрел, пожрало массу солдат, но само было побито камнями, и Регул отправил шкуру гадины в Рим, как свидетельство о происшедшем.
Посланцам Сагунта пришлось прождать довольно долго, прежде чем центурион позвал их в Сенакулум.
Грек, окинув взглядом полукруг, на котором разместились сенаторы, почувствовал смущение перед величием этого собрания. Он вспомнил вступление галлов в Рим. Изумление варваров перед этими старцами, неподвижно сидевшими на мраморных скамьях, закутанными, как призраки, в ярко-белые одежды, оставлявшими открытыми только серебристые бороды и державшими скипетры из слоновой кости с божественным величием, светившимся в их неподвижных глазах. Одни только варвары, опьяненные кровью, могли осмелиться поднять руку на внушительных старцев.
Их было больше двухсот. Кое-где между ними виднелись пустые пространства – места сенаторов, которые не могли явиться на собрание, и на белых скамьях, расположенных амфитеатром, белые точки казались снегом на замерзшей земле. Между скамьями полукругом возвышался ряд колонн, поддерживавших купол, через который проникал полумрак, как будто способствовавший сосредоточенному размышлению. Полукруг был огорожен невысокой каменной балюстрадой, и по ту сторону ее собирались именитые граждане, еще не назначенные сенаторами. В центре барьер прерывался квадратным пьедесталом с бронзовой волчицей с близнецами, сосущими ее; на подножии пьедестала виднелись начальные буквы названия высшей правительственной власти Рима: S. P. Q. R. (Сенат всего римского народа). На треножнике перед пьедесталом помещалась курильница, над которой вился ароматный голубой дымок.
Трое послов сели на мраморные скамьи возле изображения волчицы, между тройным рядом белых и неподвижных людей.
Некоторые из них опирались подбородком на руку, как бы для того, чтобы внимательнее слушать.
Послы могли говорить: сенат готов был выслушать их. И Актеон, побуждаемый умоляющими взглядами своих двух товарищей, поднялся. В его душе впечатления сменялись быстро; волнение, вызванное в первую минуту видом величественного собрания, уже улеглось.
Он стал говорить медленно, заботясь, как бы не запутаться в извилинах красноречия при объяснении на этом непривычном языке, и стараясь придать своим словам убедительность, достаточную, чтобы повлиять на представителей Рима. Он описал отчаянное сопротивление Сагунта и его упование на помощь республики; слепую веру в могущество последней, побуждавшую жителей покинуть городские укрепления и победить неприятеля при одном только слухе, что на горизонте показался римский флот. При его отправлении послом в городе уже начинал чувствоваться недостаток в припасах и боевых снарядах. А с тех пор прошло уже много времени – около двух месяцев! Ему пришлось совершить путешествие, полное опасностей и приключений, частью по морю, пользуясь попутно идущими торговыми судами, частью пешком вдоль берегов, а тем временем положение города, вероятно, сделалось отчаянным. Сагунт погибнет, если не поспешить ему на помощь. И какая ответственность падет на Рим, если он бросит покровительствуемый им город после того, как тот навлек на себя гнев Ганнибала именно своей приверженностью к Риму! Какое доверие стали бы питать к дружбе последнего другие народы, узнав о печальном конце Сагунта!..
Грек замолк, и тяжелое молчание сената указывало на глубокое впечатление, произведенное его словами.
Наконец старый Лентул, сенатор, встал, чтобы говорить. Среди всеобщего молчания он резким старческим голосом заговорил о возникновении Сагунта, если и греческого города, основанного купцами, устроившими там свои склады, но в то же время и города италийского, так как выходцы из Ардеи основали там колонию. Кроме того, Сагунт – друг Рима. Из верности к республике он даже отсек головы некоторых своих граждан, ставших на сторону Карфагена… Как велика смелость этого юнца, Гамилькарова сына, который, забыв договоры Рима с Газдрубалом, осмелился обнажить меч против города, дружественного римлянам? Если Рим равнодушно взглянет на это посягательство, дерзость Ганнибала еще возрастет: юность не знает удержу, когда видит, что ее безрассудство увенчивается успехом. Великий город не может терпеть подобного попирания его прав. Там, у входа в Сенакулум, лежат славные трофеи войн, доказывающие, что великий народ, восставший против Рима, падает побежденным к его ногам. Мы должны быть неумолимы к своим врагам и верны союзникам, мы должны теперь начать войну, чтобы сокрушить дерзновенного, вызывающего ее.
Мрачный, воинственный, суровый дух всего города говорил устами этого старика, простиравшего костлявую руку над головами своих товарищей, грозя врагу. Могучий участник древних самнитских пирровых войн проснулся в старце. Его мускулы напряглись и глаза засверкали.
Спутники Актеона не знали латинского языка, но поняли смысл выступления Лентула. Глаза их наполнились слезами, руки их рвали темные плащи, в которые они были закутаны в знак печального повода своего посольства, и, бросившись на землю со свойственной древним странностям при выражении горя, они судорожно подергивались, крича:
– Спасите нас! Спасите!
Отчаяние двух стариков и полная достоинства манера грека, стоявшего в мрачном молчании, служа как бы олицетворением Сагунта, ожидающего выполнения обещания, произвели впечатление на сенат и на народ, толпившийся за балюстрадой. Все волновались, обменивались негодующими словами. Под куполом Сенакулума стоял гул тысячи голосов. Требовали немедленного объявления войны Карфагену, призыва легионов, сбора кораблей, посадки на них войск в порте Остии и быстрой отправки против Ганнибала.
Один из сенаторов потребовал молчания, чтобы иметь возможность говорить. Это был Фабий, один из самых знаменитых римских патрициев, потомок трехсот героев, умерших в один день, сражаясь за Рим на берегах Сицилии. Его устами говорило благоразумие; его советам следовали как самым полезным; поэтому лишь только старец поднялся, сенат мгновенно утих.
В спокойных словах выразив сожаление о положении осажденного союзного города, Фабий сказал, что еще неизвестно, вызвал ли Сагунт враждебность Ганнибала против себя или его образ действия тут ни при чем. Война в Иберии создаст много затруднений для Рима, особенно теперь, когда предстоит неминуемая борьба с бунтовщиком Деметрием Фаросским. Лучше отправить послов в лагерь Ганнибала и, если африканец откажется снять осаду, отправить посольство в Карфаген с запросом к его правителям, одобряют ли они поведение своего вождя, и с требованием, в наказание за его дерзость, выдать его Риму.
– Постарайся убедить сенат всеми этими доводами. Я вижу в Карфагене единственного врага Рима… Но если бы все были как я!.. Мы поняли бы дерзость сына Гамилькара, объявили бы войну Карфагену и прогнали его в его владение… Пусть будет что будет, мы непобедимы… Италия – плотная масса, и пограничные земли, как часовые, стоящие на страже нашего лагеря, на востоке – Империя, в части, обращенной к Африке, – Сицилия, а на западе – Сардиния образуют пояс в девятьсот миль, захватывающий большую часть африканских берегов и всю Иберию. Однако он настолько длинен и состоит из стольких различных племен, что разорваться ему нетрудно. Конечно, если бы Рим проиграл даже сто сражений, он все равно остался бы Римом. И одной победы Карфагена недостаточно, чтобы уничтожить его как народ, но все же…
– Если бы все думали как ты, Катон!
– Если бы сенат думал как я, он оставил бы Деметрия Фаросского и отправил бы свои легионы в Сагунт. Таким образом, избежали бы на этот раз одной опасности: кто знает, куда зайдет этот африканский юнец и на что осмелится, если беспрепятственно овладеет городом – союзником Рима? Но мнение мое, свободного гражданина, педагога, имеет мало значения. Мальчик этот – сын консула Публия Корнелия Сципиона, и в нем с новой силой возрождаются все добродетели его семьи. Кто знает, может быть, ему суждено остановить движение Ганнибала, положить конец дерзкому могуществу Карфагена, с которым мы вечно враждуем.
Они немного побродили по Форуму, разговаривая о римских обычаях и горячо споря при сравнении их с афинскими. Строгий римлянин простился с греком, сказав, что ему надо повидаться с несколькими патрициями по своим личным делам, к которым он относился с чрезвычайной добросовестностью.
Оставшись один, Актеон почувствовал, что он голоден. До часа, когда собирался сенат, было еще долго, и, утомленный шумным движением на Форуме, Актеон пошел вдоль подножия Капитолия по улице менее широкой, чем другие, с каменными зданиями, через отворенные двери которых можно было видеть относительное благосостояние патрицианских семей, живших в этих домах.
Грек вошел в булочную и постучал палкой о каменную конторку, за которой никого не было. Из подобия подвала раздался жалобный голос, и Актеон увидел в темной яме жернова для размалывания пшеницы и запряженного в него человека, раба, приводившего его в движение с чрезвычайным усилием.
Раб вышел, почти голый, отирая пот, катившийся с лица, и, взяв деньги у грека, подал ему хлеб. Затем он продолжал стоять, с любопытством рассматривая Актеона.
– Ты булочник? – спросил последний.
– Нет, я только раб, – ответил он грустно. – Хозяин ушел на Форум, чтобы переговорить с хлеботорговцами… Не правда ли – ты грек?
И прежде чем Актеон соблаговолил подтвердить это, раб продолжал с грустной гордостью:
– Не всегда я был рабом. Я им стал совсем недавно. А когда я был свободным, моим горячим желанием было поспешить в твою страну. О Афины! Город, где поэты – боги…
И он прочел по-гречески несколько стихов из Прометея Эсхила, изумляя Актеона чистотой своего произношения и выражением, которое умел придать своим словам.
– В Риме ваши хозяева дают вам возможность посвящать себя поэзии? – спросил афинянин, смеясь.
– Я был поэтом прежде, чем стал рабом. Меня зовут Плавтом.
И, озираясь, будто боясь, что его застанет кто-нибудь из семьи хозяина, он продолжал говорить, счастливый, что освободился на несколько минут от мучительной работы верчения жернова.
– Я писал комедии. Хотел основать в Риме театр, у вас стоящий почти наравне с религией. Но римляне – народ, неотзывчивый к поэзии. Они любят фразы; трагедия, заставляющая вас плакать, оставляет их холодными; комедия Аристофана усыпляет. Им нравятся только этрусские игры, смешные действующие лица фарсов и маски с острыми зубами и безобразными головами, идущие, изрыгая неприличности, в торжественных триумфальных процессиях. Они способны побить камнями героя ваших трагедий и, наоборот, кричать, как ослы, от удовольствия, видя при въезде консула-победителя солдат, наряженных в козлиные шкуры с султанами из щетинистой гривы, и смеются, видя, как они мстят за свое унижение, оскорбляя победителя на его триумфальной колеснице. Я писал комедии для этой публики и пишу их также теперь, когда мой хозяин освобождает меня от верчения жернова. Патриции и свободные граждане не любят стихов на сцене. Здесь презирают Аристофана, осмеявшего с подмостков первых людей Афин. Мои герои – рабы, чужеземцы и наемники – заставляют смеяться публику. В этой войне я сочинил комедию, где осмеиваю хвастовство воинов. Я бы прочел ее тебе, если бы не боялся, что вот-вот вернется хозяин.
– Как же ты попал в такое жалкое положение, после того как забавлял свой народ?
– Я имел безумие основать в Риме первый театр, наподобие греческих. Это была круглая сцена в городском предместье. Я истратил занятые деньги, влез в долги: народ приходил смеяться, но платил мало. Я разорился, а мудрые римские законы присудили мне, когда я не мог заплатить, стать рабом моего кредитора. Этот булочник, прежде восхищавшийся моими комедиями и давший мне взаймы несколько мешков меди, теперь мстит мне за прежнее восхищение, заставляя вертеть жернов, как какого-нибудь осла. Каждый взрыв смеха в прошлом возмещается палкой на моей спине. Такова судьба поэтов. Даже вы платили за стихи Эсхила, человека свободного, бросая в него камни.
Плавт замолк и затем с грустной улыбкой прибавил:
– Уповаю на будущее. Не всегда мне оставаться рабом. Я встречу когда-нибудь человека, который освободит меня. Римляне, ведущие войну в далеких странах, возвращаются с более мягкими привычками и любят искусство. Я буду свободен, выстрою новый театр, и тогда… тогда…
Лицо его озарилось надеждой, будто он уже видел осуществление мечты, скрашивавшей темноту подвала, где он вертел огромный каменный круг.
Внутри дома послышался шум, и, прежде чем сыновья хозяина могли увидеть его, Плавт поспешно вернулся к жернову, между тем как грек вышел из булочной, омраченный встречей.
«Что это за народ, который превращает должников в рабов, а поэтов – во вьючную скотину?»
Грек съел свой хлеб, гуляя по Форуму. Он ожидал часа собрания сената и, чтобы заполнить время, взошел на вершину Палатинского холма – священного места, колыбели Рима. Там он увидел волчье логовище, где волчица вскормила Ромула и Рема. При входе в священную пещеру раскинула свои ветви, теперь обнаженная, смоковница Ромула и Рема – знаменитое дерево, в тени которого играли исторические близнецы, основатели города. Рядом с деревом, на гранитном пьедестале возвышалось изображение волчицы из темной блестящей бронзы – произведение этрусского художника – с полуоткрытой пастью и двумя рядами больших сосков на брюхе, к которым присосались, теребя их, два голых мальчика.
Актеон смотрел с вершины холма на огромный город, представлявшийся собранием крыш между семью холмами. Дома взбирались на возвышенности и были разбросаны по долинам. Между ними, почти рядом с Палатинским холмом, возвышался Капитолий – крепость Рима – на отвесной бесплодной Торпейской скале. Грек перешел туда, чтобы осмотреть поближе храм Юпитера Капитолийского, более знаменитого своей славой, чем красотой.
Пройдя мимо лишенного всяких украшений храма Марса, стоявшего на вершине Палатинского холма, Актеон по крутой извилистой тропе перешел к Капитолию. Он встретил на своем пути жрецов Юпитера, выступавших важной поступью, будто принося постоянную жертву своему богу; видел мерно выступающих весталок, закутанных в белые покрывала. Из храма Марса вышли несколько легионеров, закованных в латы из медных полос, похожих одна на другую; обнаженные бедра прикрывались только шерстяными полосами, висевшими с пояса. Они шли, держась за рукоятки своих коротких мечей и оживленно разговаривая о предстоящем походе в Империю, но ни одним словом не вспомнили о положении иберийских союзников.
Актеон вступил в священную ограду Капитолия, окруженного мрачными стенами. Тут была старинная Торпейская скала с двумя вершинами, соединенными большой площадкой. На более высокой – северной – помещалась цитадель Рима, на южной – храм Юпитера Капитолийского, окруженный крепкими колоннами.
Актеон вошел в цитадель, прославившуюся своей защитой во время нашествия галлов. По краю лужи, среди храмов, примыкавших к твердыне, он увидел священных птиц, гусей, предупредивших своим криком среди ночной тишины о готовящемся нападении галлов. Затем по нижней площадке, делившей холм как бы на две части, Актеон подошел к великому римскому святилищу.
Лестница в семь ступеней вела к храму, построенному во времена последнего Тарквиния в честь трех римских божеств – Юпитера, Юноны и Минервы. Здание состояло из трех отделений, параллельных трем открытым дверям на одном фронтоне. Среднее отделение было посвящено Юпитеру, оба крайних – двум другим божествам. Фронтон, по углам которого возвышалось несколько каменных лошадей грубой работы, поддерживал тройной ряд колонн. По боковым сторонам тянулись два ряда колонн, образуя портик, под тенью которого прохаживались очень старые римляне, обсуждая городские дела.
Храм был построен архитекторами, вызванными из Этрурии, и под колоннами виднелись статуи, привезенные из Сицилии и с других войн, которые вел Рим. Этот суровый народ был не способен производить художников: у него были солдаты, снабжавшие его художественными произведениями путем захвата и грабежа.
Афинянин вошел в среднее отделение, посвященное Юпитеру, и увидел изображение бога из обожженной глины, с позолоченным копьем в деснице. Перед изображением неугасимо курился жертвенный алтарь. На верхушке храма гномон – солнечные часы показывали со своей высоты время всему Риму.
Пора было отправляться в Сенакулум – старинное здание у подножия Торпейской скалы, между Капитолием и Форумом, много лет спустя превращенное в храм Согласия. На ступенях, ведущих к Сенакулуму, Актеон встретил двух послов, отправленных Сагунтом еще до начала осады: двух старых земледельцев, в первый раз в жизни растерявшихся и сознававших свое бессилие за несколько месяцев пребывания в Риме, прошедших в бесконечных посещениях сенаторов, свиданиях с ними и убеждениях, не приводивших ни к чему. Оба сагунтинца, растерявшиеся и сознававшие свое бессилие перед городом, все не дававшим окончательного ответа на их просьбы, последовали, как автоматы, за развязным греком, везде чувствовавшим себя как дома и говорившим на разных языках, будто весь свет был его родителем.
Собрались сенаторы. Одни пришли после своих городских дел и явились в белых тогах с красной каймой, сопровождаемые клиентами, пролагавшими дорогу, как бы желая привлечь внимание к своим величественным покровителям. Другие, прибывшие из деревни, оставляли свои повозки у ступеней Сенакулума и, передав вожжи рабам, восходили по лестнице с перевешенной через руку тогой, одетые в короткую юбку из грубой шерсти, какую обыкновенно носили земледельцы, и распространяющие вокруг себя запах своих конюшен и хлевов. Это были все люди зрелых лет, по крепкой мускулатуре их можно было сразу видеть, какую им приходилось вести жизнь в постоянной борьбе с землей и с врагами; были и старики с длинными бородами и высохшими лицами, дрожавшие от старости, но со взглядом, выражавшим сознание прежних сил. Толпа, двигавшаяся по Форуму у ступеней Сенакулума, смотрела на них с восторгом и почтением: они были отцами республики, головой Рима.
Посланцы Сагунта поднялись по лестнице храма. Под колоннами, поддерживающими фронтон, были навалены груды вещей, награбленных в последние войны и принесенные на Форум во время триумфального шествия победителей среди толпы, приветствовавшей их, размахивая лавровыми ветвями. Актеон видел щиты, пробитые стрелами, мечи со следами крови, большие колесницы с отломанными дышлами и позолотой, загрязненной глиной поля битвы. Это были трофеи самнитской войны. А дальше, по стенам, тянулся целый ряд деревянных фигур, окрашенных в красный и синий цвет, снятых с носов карфагенских кораблей после великой победы при Эгастских островах. Тут же лежали железные скобы с ворот многих городов, завоеванных римлянами: золотые значки с изображением фантастических животных, раскачивавшиеся над войсками Пирра, огромные клыки слонов, с которыми эти африканцы шли против римских легионов, шлемы лигурийцев с рогами или орлиными крыльями, стрелы альпийских племен, а возле дверей, как почетный трофей, – доспехи славного Камилла, пронесенные по городу с триумфом после того, как великий римлянин прогнал галлов из Капитолия. На одной из стен висело странное украшение – огромный черный кусок, напоминавший пергамент. Это была кожа большой змеи, в продолжение целого дня задерживавшей все войско Атилия Регула на его пути к завоеванию в Африке Карфагена. Это чудовище, неуязвимое для стрел, пожрало массу солдат, но само было побито камнями, и Регул отправил шкуру гадины в Рим, как свидетельство о происшедшем.
Посланцам Сагунта пришлось прождать довольно долго, прежде чем центурион позвал их в Сенакулум.
Грек, окинув взглядом полукруг, на котором разместились сенаторы, почувствовал смущение перед величием этого собрания. Он вспомнил вступление галлов в Рим. Изумление варваров перед этими старцами, неподвижно сидевшими на мраморных скамьях, закутанными, как призраки, в ярко-белые одежды, оставлявшими открытыми только серебристые бороды и державшими скипетры из слоновой кости с божественным величием, светившимся в их неподвижных глазах. Одни только варвары, опьяненные кровью, могли осмелиться поднять руку на внушительных старцев.
Их было больше двухсот. Кое-где между ними виднелись пустые пространства – места сенаторов, которые не могли явиться на собрание, и на белых скамьях, расположенных амфитеатром, белые точки казались снегом на замерзшей земле. Между скамьями полукругом возвышался ряд колонн, поддерживавших купол, через который проникал полумрак, как будто способствовавший сосредоточенному размышлению. Полукруг был огорожен невысокой каменной балюстрадой, и по ту сторону ее собирались именитые граждане, еще не назначенные сенаторами. В центре барьер прерывался квадратным пьедесталом с бронзовой волчицей с близнецами, сосущими ее; на подножии пьедестала виднелись начальные буквы названия высшей правительственной власти Рима: S. P. Q. R. (Сенат всего римского народа). На треножнике перед пьедесталом помещалась курильница, над которой вился ароматный голубой дымок.
Трое послов сели на мраморные скамьи возле изображения волчицы, между тройным рядом белых и неподвижных людей.
Некоторые из них опирались подбородком на руку, как бы для того, чтобы внимательнее слушать.
Послы могли говорить: сенат готов был выслушать их. И Актеон, побуждаемый умоляющими взглядами своих двух товарищей, поднялся. В его душе впечатления сменялись быстро; волнение, вызванное в первую минуту видом величественного собрания, уже улеглось.
Он стал говорить медленно, заботясь, как бы не запутаться в извилинах красноречия при объяснении на этом непривычном языке, и стараясь придать своим словам убедительность, достаточную, чтобы повлиять на представителей Рима. Он описал отчаянное сопротивление Сагунта и его упование на помощь республики; слепую веру в могущество последней, побуждавшую жителей покинуть городские укрепления и победить неприятеля при одном только слухе, что на горизонте показался римский флот. При его отправлении послом в городе уже начинал чувствоваться недостаток в припасах и боевых снарядах. А с тех пор прошло уже много времени – около двух месяцев! Ему пришлось совершить путешествие, полное опасностей и приключений, частью по морю, пользуясь попутно идущими торговыми судами, частью пешком вдоль берегов, а тем временем положение города, вероятно, сделалось отчаянным. Сагунт погибнет, если не поспешить ему на помощь. И какая ответственность падет на Рим, если он бросит покровительствуемый им город после того, как тот навлек на себя гнев Ганнибала именно своей приверженностью к Риму! Какое доверие стали бы питать к дружбе последнего другие народы, узнав о печальном конце Сагунта!..
Грек замолк, и тяжелое молчание сената указывало на глубокое впечатление, произведенное его словами.
Наконец старый Лентул, сенатор, встал, чтобы говорить. Среди всеобщего молчания он резким старческим голосом заговорил о возникновении Сагунта, если и греческого города, основанного купцами, устроившими там свои склады, но в то же время и города италийского, так как выходцы из Ардеи основали там колонию. Кроме того, Сагунт – друг Рима. Из верности к республике он даже отсек головы некоторых своих граждан, ставших на сторону Карфагена… Как велика смелость этого юнца, Гамилькарова сына, который, забыв договоры Рима с Газдрубалом, осмелился обнажить меч против города, дружественного римлянам? Если Рим равнодушно взглянет на это посягательство, дерзость Ганнибала еще возрастет: юность не знает удержу, когда видит, что ее безрассудство увенчивается успехом. Великий город не может терпеть подобного попирания его прав. Там, у входа в Сенакулум, лежат славные трофеи войн, доказывающие, что великий народ, восставший против Рима, падает побежденным к его ногам. Мы должны быть неумолимы к своим врагам и верны союзникам, мы должны теперь начать войну, чтобы сокрушить дерзновенного, вызывающего ее.
Мрачный, воинственный, суровый дух всего города говорил устами этого старика, простиравшего костлявую руку над головами своих товарищей, грозя врагу. Могучий участник древних самнитских пирровых войн проснулся в старце. Его мускулы напряглись и глаза засверкали.
Спутники Актеона не знали латинского языка, но поняли смысл выступления Лентула. Глаза их наполнились слезами, руки их рвали темные плащи, в которые они были закутаны в знак печального повода своего посольства, и, бросившись на землю со свойственной древним странностям при выражении горя, они судорожно подергивались, крича:
– Спасите нас! Спасите!
Отчаяние двух стариков и полная достоинства манера грека, стоявшего в мрачном молчании, служа как бы олицетворением Сагунта, ожидающего выполнения обещания, произвели впечатление на сенат и на народ, толпившийся за балюстрадой. Все волновались, обменивались негодующими словами. Под куполом Сенакулума стоял гул тысячи голосов. Требовали немедленного объявления войны Карфагену, призыва легионов, сбора кораблей, посадки на них войск в порте Остии и быстрой отправки против Ганнибала.
Один из сенаторов потребовал молчания, чтобы иметь возможность говорить. Это был Фабий, один из самых знаменитых римских патрициев, потомок трехсот героев, умерших в один день, сражаясь за Рим на берегах Сицилии. Его устами говорило благоразумие; его советам следовали как самым полезным; поэтому лишь только старец поднялся, сенат мгновенно утих.
В спокойных словах выразив сожаление о положении осажденного союзного города, Фабий сказал, что еще неизвестно, вызвал ли Сагунт враждебность Ганнибала против себя или его образ действия тут ни при чем. Война в Иберии создаст много затруднений для Рима, особенно теперь, когда предстоит неминуемая борьба с бунтовщиком Деметрием Фаросским. Лучше отправить послов в лагерь Ганнибала и, если африканец откажется снять осаду, отправить посольство в Карфаген с запросом к его правителям, одобряют ли они поведение своего вождя, и с требованием, в наказание за его дерзость, выдать его Риму.