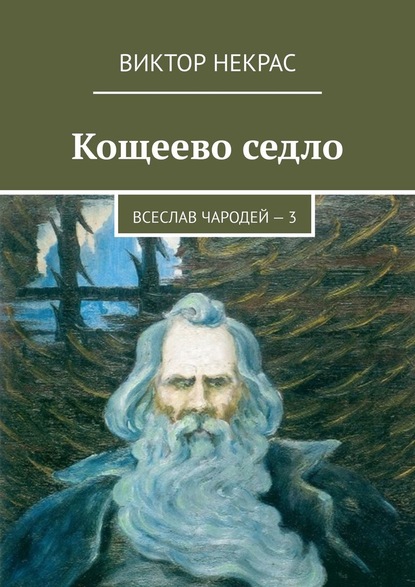По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Кощеево седло. Всеслав Чародей – 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отходим! Живо!
Купец сглотнул и, косясь на широкое острожалое лёзо ножа, махнул своим людям, замершим было с чалками в руках. Чалки отдались, течение мягко подхватило лодью и понесло кормой вперёд, но дружно ударили вёсла, и она рывком двинулась против течения.
Когда вымол остался позади на два перестрела, а над головой хлопнул, разворачиваясь, парус, тут же наполнивший ветром свои широкие, объёмистые пазухи, Колюта отпустил купца и убрал нож. И, глядя в испуганно расширенные глаза, сказал:
– Ты уж прости, добрый человек, что обидел, да только нельзя было мне в Киеве оставаться.
Сузив в бешенстве глаза, купец выразился. Потом ещё и ещё, с каждым разом всё крепче, срывая злость. Колюта его понимал – именно в такие вот мгновения непривычные к войне люди и седеют враз.
– Ну прости, говорю. Ну не мог я иначе, – сказал калика вдругорядь, оглядываясь – не видать ли челноков с погоней. Их не было – невестимо почему, может, просто лодок не оказалось поблизости. Но, в любом случае, Киев удалялся прочь, и я вновь поворотился к купцу. – Ты не бойся, я заплачу за дорогу и за оружие больше хвататься не буду. И даже на вёслах посижу, если надо будет, грести я тоже умею, доводилось.
Купец ещё несколько мгновений разглядывал калику, потом, отходя, наконец, от гнева, кивнул:
– Ин ладно. Будь по твоему. Заплатит он! – запоздало вспыхнул он опять. – Дырами на своей рубахе заплатишь, небось?! На весло тебя посажу, будешь мне до самого Турова грести!
– А ты в Туров идёшь, господине? – смиренно спросил Колюта, низя взгляд.
– О! – купец опять пыхнул нерастраченным гневом. – Он даже не знает, куда я иду! Спросил бы хоть, прежде чем на борт бросаться! Да меня в Киеве всякий пёс знает, я торгую от Турова до Белой Вежи!
– Ну так то пёс ведь, а я ж не пёс, – пробормотал Колюта себе под нос, но так, чтобы и купцу было слышно. Тот вновь запыхтел, готовясь ругаться, но Колюта опередил. – Дозволь на весло сесть, хозяин?
– Ступай! И чтоб до Турова на глаза мне не попадался!
2
В месяц зарев жара отступает, лето становится мягким, и тёплые ровные ветра гудят в вышине, играют листвой дубов и берёз на киевских горах. А в низине, у воды, там, где с Киевой горы сбегают к Днепру и Подолу дома Боричева взвоза – тишь, только вода в Днепре морщится от лёгкого ветерка.
Мальчишки остановились у самой воды, огляделись по сторонам.
– В самый раз будет, – обронил старший. – И глубина добрая, и течение тихое, и не видит никто.
И в самом деле, выбранное ребятами место было укромным – от берега его отгораживали густые заросли ивняка, через которые они и сами едва пролезли, а от Горы, с которой далеко видно, – густой сосняк на окраине Подола.
Младший сбросил с плеча котомку из посконины, потянулся, повёл плечами:
– И чего на рыбалку всегда надо вставать в такую рань, а, Сушко?
Старший походя отвесил ему лёгкий подзатыльник:
– Потому что на утренней зорьке всегда самый лучший клёв, бестолочь.
Младший увернулся и пробурчал себе под нос:
– Вымахал, орясина.
Сушко беззлобно усмехнулся в ответ, разматывая с гребешка конский волос:
– Ладно, не ворчи. Доставай крючки, рыба ждать не будет.
– Пожди, – младший полез в кусты, что-то невнятно бурча под нос.
– Чего пожди-то? – не понял Сушко. – Ты куда? По нужде что ль? Торля?!
Торля промолчал. Сушко покосился в его сторону – младший брат стоял в ивняке столбом, словно змею увидел, потом оборотился (а лицо – бледное!) и молча позвал старшего одним движением руки.
– Ну чего там? – Сушко раздвинул кусты и тоже замер, словно прикованный к месту.
Человек лежал в воде у самого берега вниз лицом – видно, вползти в кусты у него сил ещё хватило, а вот на берег выбраться – уже нет. Вода полоскала крашеную буро-зелёным плауном рубаху и тёмно-серые штаны, трепала длинный чёрный с заметной проседью чупрун на когда-то бритой, а теперь поросшей коротким волосом голове.
– Эва, – шёпотом сказал Торля и кивнул на чупрун. – Вой, никак. А то и гридень, а, Сушко?
– Помалкивай, – оборвал старший, и младший обиженно смолк – трудно в десять лет спорить со старшим братом, которому уже четырнадцать. Хотя и очень хочется.
Сушко шагнул к лежащему, присел рядом, опасливо прикоснулся кончиками пальцев к плечу и тут же отдёрнул руку.
– Ну что? Живой он, нет? – Торля вмиг оказался рядом – отстать от старшего брата в таком страшном и интересном деле – позорище.
– Да не пойму пока, – Сушко помолчал, кусая губу, потом сказал решительно. – Давай-ка его перевернём.
– Страшно, Сушко, – сказал Торля почему-то шёпотом, но старший брат тут же отверг:
– Нечего бояться. Даже если и топляк, то свеженький, встать не успел ещё.
Вдвоём дружно ухватили воя за плечи, рывком перевернули на спину. И тут же отпрянули – изо рта послышался сдавленный хрип, тут же перешедший в слабый стон.
– Живой, – прошептал Торля.
Братья переглянулись и вновь уставились на свою находку. Рыбалка была забыта вмиг.
– Что делать будем, а, Сушко? – Торля поднял на старшего брата испуганные глаза.
Тот в ответ только головой мотнул – нишкни, мол! Смотрел на лежащего, не отрывая глаз и покусывая нижнюю губу. Думал.
Вой. Вестимо, вой – длинные усы на верхней губе, короткая щетина на нижней челюсти – давно, видно, бриться не доводилось вою. Лет под сорок, крепкий. Вышивка на праздничной рубашке, порванной в двух местах.
Не порванной, порубленной! – тут же поправил себя Торля и поёжился.
Вой был ранен. И не один раз.
Из прорех в одежде слабо сочилась кровь. И то добро! Кровь идёт, стало быть, есть надежда, что выживет! – вспомнил Сушко слышанное от бывалых людей.
Что же с ним делать?
– Надо на Гору бежать, рассказать, – предложил Торля, заглядывая Сушко в лицо. – Пусть людей за ним пришлют! Вой же! А, Сушко?
Но старший брат не спешил. Скрестив ноги, он сел рядом с раненым и задумался. На нетерпеливые же вопросы Торли не отвечал. Младший тоже принялся разглядывать раненого и только тут заметил то, что надо было бы ему увидеть сразу – что вышивка у воя на рубашке – отнюдь не киевская, не полянская.
На его слова Сушко только качнул головой:
Купец сглотнул и, косясь на широкое острожалое лёзо ножа, махнул своим людям, замершим было с чалками в руках. Чалки отдались, течение мягко подхватило лодью и понесло кормой вперёд, но дружно ударили вёсла, и она рывком двинулась против течения.
Когда вымол остался позади на два перестрела, а над головой хлопнул, разворачиваясь, парус, тут же наполнивший ветром свои широкие, объёмистые пазухи, Колюта отпустил купца и убрал нож. И, глядя в испуганно расширенные глаза, сказал:
– Ты уж прости, добрый человек, что обидел, да только нельзя было мне в Киеве оставаться.
Сузив в бешенстве глаза, купец выразился. Потом ещё и ещё, с каждым разом всё крепче, срывая злость. Колюта его понимал – именно в такие вот мгновения непривычные к войне люди и седеют враз.
– Ну прости, говорю. Ну не мог я иначе, – сказал калика вдругорядь, оглядываясь – не видать ли челноков с погоней. Их не было – невестимо почему, может, просто лодок не оказалось поблизости. Но, в любом случае, Киев удалялся прочь, и я вновь поворотился к купцу. – Ты не бойся, я заплачу за дорогу и за оружие больше хвататься не буду. И даже на вёслах посижу, если надо будет, грести я тоже умею, доводилось.
Купец ещё несколько мгновений разглядывал калику, потом, отходя, наконец, от гнева, кивнул:
– Ин ладно. Будь по твоему. Заплатит он! – запоздало вспыхнул он опять. – Дырами на своей рубахе заплатишь, небось?! На весло тебя посажу, будешь мне до самого Турова грести!
– А ты в Туров идёшь, господине? – смиренно спросил Колюта, низя взгляд.
– О! – купец опять пыхнул нерастраченным гневом. – Он даже не знает, куда я иду! Спросил бы хоть, прежде чем на борт бросаться! Да меня в Киеве всякий пёс знает, я торгую от Турова до Белой Вежи!
– Ну так то пёс ведь, а я ж не пёс, – пробормотал Колюта себе под нос, но так, чтобы и купцу было слышно. Тот вновь запыхтел, готовясь ругаться, но Колюта опередил. – Дозволь на весло сесть, хозяин?
– Ступай! И чтоб до Турова на глаза мне не попадался!
2
В месяц зарев жара отступает, лето становится мягким, и тёплые ровные ветра гудят в вышине, играют листвой дубов и берёз на киевских горах. А в низине, у воды, там, где с Киевой горы сбегают к Днепру и Подолу дома Боричева взвоза – тишь, только вода в Днепре морщится от лёгкого ветерка.
Мальчишки остановились у самой воды, огляделись по сторонам.
– В самый раз будет, – обронил старший. – И глубина добрая, и течение тихое, и не видит никто.
И в самом деле, выбранное ребятами место было укромным – от берега его отгораживали густые заросли ивняка, через которые они и сами едва пролезли, а от Горы, с которой далеко видно, – густой сосняк на окраине Подола.
Младший сбросил с плеча котомку из посконины, потянулся, повёл плечами:
– И чего на рыбалку всегда надо вставать в такую рань, а, Сушко?
Старший походя отвесил ему лёгкий подзатыльник:
– Потому что на утренней зорьке всегда самый лучший клёв, бестолочь.
Младший увернулся и пробурчал себе под нос:
– Вымахал, орясина.
Сушко беззлобно усмехнулся в ответ, разматывая с гребешка конский волос:
– Ладно, не ворчи. Доставай крючки, рыба ждать не будет.
– Пожди, – младший полез в кусты, что-то невнятно бурча под нос.
– Чего пожди-то? – не понял Сушко. – Ты куда? По нужде что ль? Торля?!
Торля промолчал. Сушко покосился в его сторону – младший брат стоял в ивняке столбом, словно змею увидел, потом оборотился (а лицо – бледное!) и молча позвал старшего одним движением руки.
– Ну чего там? – Сушко раздвинул кусты и тоже замер, словно прикованный к месту.
Человек лежал в воде у самого берега вниз лицом – видно, вползти в кусты у него сил ещё хватило, а вот на берег выбраться – уже нет. Вода полоскала крашеную буро-зелёным плауном рубаху и тёмно-серые штаны, трепала длинный чёрный с заметной проседью чупрун на когда-то бритой, а теперь поросшей коротким волосом голове.
– Эва, – шёпотом сказал Торля и кивнул на чупрун. – Вой, никак. А то и гридень, а, Сушко?
– Помалкивай, – оборвал старший, и младший обиженно смолк – трудно в десять лет спорить со старшим братом, которому уже четырнадцать. Хотя и очень хочется.
Сушко шагнул к лежащему, присел рядом, опасливо прикоснулся кончиками пальцев к плечу и тут же отдёрнул руку.
– Ну что? Живой он, нет? – Торля вмиг оказался рядом – отстать от старшего брата в таком страшном и интересном деле – позорище.
– Да не пойму пока, – Сушко помолчал, кусая губу, потом сказал решительно. – Давай-ка его перевернём.
– Страшно, Сушко, – сказал Торля почему-то шёпотом, но старший брат тут же отверг:
– Нечего бояться. Даже если и топляк, то свеженький, встать не успел ещё.
Вдвоём дружно ухватили воя за плечи, рывком перевернули на спину. И тут же отпрянули – изо рта послышался сдавленный хрип, тут же перешедший в слабый стон.
– Живой, – прошептал Торля.
Братья переглянулись и вновь уставились на свою находку. Рыбалка была забыта вмиг.
– Что делать будем, а, Сушко? – Торля поднял на старшего брата испуганные глаза.
Тот в ответ только головой мотнул – нишкни, мол! Смотрел на лежащего, не отрывая глаз и покусывая нижнюю губу. Думал.
Вой. Вестимо, вой – длинные усы на верхней губе, короткая щетина на нижней челюсти – давно, видно, бриться не доводилось вою. Лет под сорок, крепкий. Вышивка на праздничной рубашке, порванной в двух местах.
Не порванной, порубленной! – тут же поправил себя Торля и поёжился.
Вой был ранен. И не один раз.
Из прорех в одежде слабо сочилась кровь. И то добро! Кровь идёт, стало быть, есть надежда, что выживет! – вспомнил Сушко слышанное от бывалых людей.
Что же с ним делать?
– Надо на Гору бежать, рассказать, – предложил Торля, заглядывая Сушко в лицо. – Пусть людей за ним пришлют! Вой же! А, Сушко?
Но старший брат не спешил. Скрестив ноги, он сел рядом с раненым и задумался. На нетерпеливые же вопросы Торли не отвечал. Младший тоже принялся разглядывать раненого и только тут заметил то, что надо было бы ему увидеть сразу – что вышивка у воя на рубашке – отнюдь не киевская, не полянская.
На его слова Сушко только качнул головой: